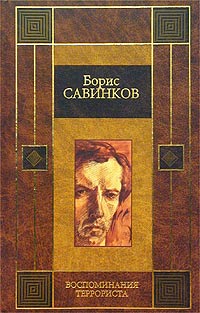Генерал террора
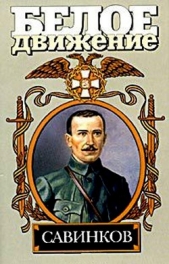
Генерал террора читать книгу онлайн
Об одном из самых известных деятелей российской истории начала XX в., легендарном «генерале террора» Борисе Савинкове (1879—1925), рассказывает новый роман современного писателя А. Савеличева.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Спустив её с коленей, Савинков радостно побежал к буфету — в самом деле, здесь и буфет оказался, полный вина и закусок. Его особенно умилили бокалы — узкий холодный, как лёд, хрусталь, который и царскую душу в далёкой Сибири мог бы повеселить... Но, впрочем, чего это цари на уме — царь-государь сидит где-то в сибирской тюрьме, в настоящей тюрьме, и уж ему-то едва ли подают такие бокалы. Савинков хлопнул пробкой.
— Люба!
— Да, Боря?
— Мы будем пить или не будем?..
Их руки, отяжелённые бокалами, тянулись и тянулись навстречу друг другу — минуту ли, две ли, час ли, день ли... не год ли... не пять, не семь долгих лет?! — и никак не могли соединиться, сделать самое простое и обычное: чокнуться и разменяться бокалами, для вящей дружбы, для истинной любви, бесконечной и вечной...
Но почему — семь? Разве вечность чем-то ограничена, да ещё всего семью годами?
Он всем напряжением воли стремился к ней навстречу, в конце концов посаженный парижский шафер, он имеет право, да просто обязан... Что — обязан?..
Любить свою подопечную!
Да-да, любить.
А какая же любовь без шампанского? Раз откупорена бутылка и налиты бокалы — надо пить, пить досуха, досыта...
Но рука, твёрдо державшая бомбу и браунинг, стала противно-ватной, рука не слушалась, рука не хотела идти навстречу другому бокалу, какому-то слишком знойному, почти кроваво-красному... да что там — чьей-то кровушкой наполненному, горяченькой... Поняв это, он мог бы отворотиться, бросить противное усилие — испить такой бокал, но ничего с собой поделать не мог. Продолжал смешное, даже пакостное дело — требовать, просить, вымаливать совершенно ему не нужное смертное питие!
Дойдя до такой ясности, мысль его должна была дрогнуть, ужаснуться — но нет, не ужаснулась, продолжала кружить в каком-то гибельном круге. Вокруг двух никак не соединяющихся бокалов, вокруг двоих людей, одним из которых был вроде бы он, а другим... Люба или не Люба? Она руку-то тянула к нему навстречу, а сама отдалялась... на минуту, на две, на год... и неужели на все семь лет?! Он ничего не мог поделать с этим самоотстранением. Кроваво-красный бокал удалялся; рука, державшая его, истончалась, вытягивалась... в вечность, ограниченную почему-то семью годами...
Но, видимо, такова вечность. Раз нет другой! Чего ты хочешь, безумец? Знаешь, кто каждому задаёт Вечность? Вот именно, Бог.
Ты возомнил себя — выше?..
X
Савинков проснулся в уютной боковой комнате Деренталей и пошевелил губами, высчитывая:
— Семь лет... К восемнадцати прибавить семь — это, кажется, двадцать пять... От двадцати пяти отнять семь — опять же будет восемнадцать?.. Не верю! Я не верю ни в какие сны.
— Даже в мои? — вышла из своей комнаты в лёгком малиновом, увитом розами халатике воздушная Любовь Ефимовна.
Он смотрел на неё, как бы не узнавая. Халат... но ведь халат был всё тот же!
— Какой нынче год?.. Если к восемнадцати прибавить семь... если от двадцати пяти отнять всё те же семь?!
Любовь Ефимовна смотрела на него расширившимися глазами:
— Борис Викторович! Что с вами?..
Халат своими семилетней будущности розами опахивал ему лицо, халат мог действительно свести его на грань безумия, а он, всякой логике вопреки, стал яснеть головой и, отстраняясь, совсем уж определённо сказал:
— Знаете, Любовь Ефимовна, странный... вещий... сон мне приснился. Я увидел, я совершенно ясно узрел, что будет со мной... да и с вами тоже... через семь, представьте, через семь невообразимых лет! Так где же сон, а где явь?
— Сны проходят, дорогой Борис Викторович, явь остаётся, — опахнула она ему лицо халатом, сверху жарким и душным, как прогретая московская улица, а внутри чистым и прохладным, и не оставалось ничего другого — просто спрятать голову в его глубокую, щекочущую ноздри тень...
Он посчитал за нужное посмеяться:
— Разве что Саши вам сейчас и не хватает!
— Сашу раным-рано вызвали по телефону в посольство, — прикрыла она этот глупый вопрос своим розовым опахалом.
Савинков видел, что ночной сон повторяется, и уж теперь-то наяву...
Но дневным снам не суждено было сбыться.
Без звонка, без стука влетел с улицы Деренталь и сдавленным голосом закричал:
— Консул меня по-дружески предупредил: Чека дозналась, что вы у нас квартируете. Не бойтесь! — вскричал он, совершенно не замечая, в каком положении и в каком одеянии находится жена. — В квартиру, арендованную французским посольством, они не ворвутся, но за порогом... за порогом вас сразу же схватят, Борис Викторович. Выход?!
Савинков не замечал, что уже машинально оделся и рассовывает по карманам все свои липовые документы, сует за брючный ремень старый, неизменный браунинг и в прорехи почтмейстерского пальто — по нагану, по хорошему военному нагану. Через пять минут его было уже не узнать: стоял перед растерзанной кроватью старенький почтмейстерше, с седенькой бородкой, в картузике и высоких, стоптанных сапогах, в голенища засовывал целыми пачками патроны и деньги, деньги и опять патроны — всё, что нужно дорожному московскому человеку.
Тем временем и Любовь Ефимовна, метнувшаяся было в свою спальню, выскочила обратно уже одетая, с мотком крепкой, не распечатанной ещё бечевы:
— Как хорошо, что мы часто переезжаем с места на место! Как без такой бечёвки паковать вещи? Сгодится, Борис Викторович?
Он распахнул заднее, выходящее во двор окно — ещё раньше всё вокруг обследовал, — и уже прицельно прищурил глаз:
— Сгодится, Любовь Ефимовна. Единственное — найдите что-нибудь тяжёлое, да хоть маленький утюжок... да, тот самый, которыми кружева гладите.
Всё он здесь знал, а Любовь Ефимовна с первого слова его понимала. Утюжок так утюжок.
Он привязал к его ручке конец бечевы, сделал хорошую, узлом затянутую петлю, в левую руку взял порядочный роспуск шнура и с подоконника, широко размахнувшись, метнул утюжок за каменный оголовок соседнего балкона.
— Привяжите за радиатор, а как пройду — отвяжите. И — прощайте, друзья. Кому следует — передайте: еду в Рыбинск. Адью!
Любовь Ефимовна покачала головой: ах, баловник, он ещё может в такое время шутить!..
Но Савинков уже был на соседнем балконе и выбирал оставленный конец бечевы. Снова привязал. Снова проделал такой же бросок, к следующему балкону... ещё и ещё, не имея возможности отвязывать задний конец, попросту обрезал его, пока бечева, на пятом броске, совсем не кончилась. Но это было уже почти на другом конце дома. С пятого балкона Савинков по водосточной трубе спустился в безопасный угол двора и успел ещё помахать рукой двум зависшим в дальнем теперь уже окне головам, прежде чем увидел: с того конца из-за дома бегут кожаные, решительно распахнутые тужурки, чтобы закрыть чёрный выход...
— Опоздали, друзья, — без всякой злости сказал Савинков, пряча поглубже за ремень вытащенный было браунинг.
Теперь оставалось простое дело: найти своих железнодорожников и, скинув уже примелькавшуюся почтарскую одёжку, переодеться во всё железнодорожное.
Прощай — Москва.
Здравствуй — Рыбинск!
За Ярославль он не беспокоился: там полковник Перхуров, там все основные силы; Рыбинск приходилось брать силами малыми, внезапно и оглушительно. Чего особенного — где свалены целые горы снарядов, там можно ожидать любого бикфордова дымка, а дыма без огня не бывает, а огня без порохового грохота — и подавно.
Не так ли, заскучавшие, поди, без дела господа офицеры?
ЧАСТЬ ЧЕТВЁРТАЯ
К ОРУЖИЮ, ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ!
I

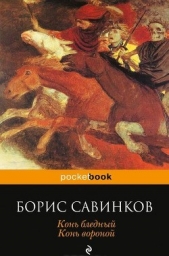
![[Книга Премудрости Иисуса, сына Сирахова]](/uploads/posts/books/60472/60472.jpg)