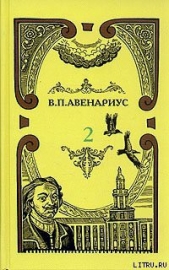Бироновщина. Два регентства

Бироновщина. Два регентства читать книгу онлайн
В книгу входят две исторические повести: "Бироновщина" - о последних полутора годах царствования императрицы Анны Иоанновны – и "Два регентства", охватывающая полностью правление герцога Бирона и принцессы Анны Леопольдовны.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Ну, подумайте! Его бы исковеркал и сам бы себя тем погубил. Да на кого ты, скажи, так злобишься?
— Назвать его я не смею: обещал молчать. А будь я ему равный, да я тут же вызвал бы его на пистолеты, всадил бы ему пулю в грудь…
— Либо сам был бы подстрелен, как кулик. За что? Про что? Борони, Боже! Нет, миляга, так–то лучше. Обидел он тебя, ну, ты по–христиански отпусти ему грех: Господь с ним!
— Да почему он–то нашего брата может обижать безвозбранно?
— Потому, что судьбою выше нас поставлен. Каждому человеку свой предел положен.
— Да почему? Почему другие родятся уже вольными, а вот мы от рождения навек закабалены? Кабы воля…
— Заладил свое: «Кабы воля!» Да что ты думаешь, и сам я тоже примерно мог бы быть не токмо что вольным, но и первым богатеем.
— Правда, дяденька?
— Истинная правда, врать не стану. Да ну с ней, с этой волей да и с богатством!
— Что так?
— А так… Аль рассказать тебе? В науку тебе пойдет.
Старик достал из–за пазухи свою берестовую тавлинку, сделал здоровую понюшку, от удовольствия крякнул и начал затем свой рассказ:
— Было то, милый ты мой, с полвека назад, а то и все шесть десятков, шел мне тогда, сколько уже не упомню, двенадцатый либо тринадцатый год. Паренек из себя был я, как вот ты, пригожий, а паче того, юркий: полюбился я за ту юркость моему старому барину, покойному деду нонешних моих господ (царство Небесное!), и определил он меня к себе в казачки, куда ни поедет, везде я с ним. А была у него тоже страстишка (не тем будь помянут!) к этим проклятым картам. Случилось нам с ним быть у Макария на ярмарке, столкнись он тут с такими ж картежниками, и обчистили, ободрали они его, голубчика, как липку, до последней, значит, копейки. Пошел он тут со мной на ярмарку меж народом потолкаться, от дурмана игорного проветриться. Ходим мы этак меж палаток и возов, всяк ему товар свой выхваливает, а он, знай, все хаит да фыркает. Может, что и купил бы, да коли у самого в кармане ветер дует, поневоле зафыркаешь.
Глядь, отколе ни возьмись, накатилась на меня — бочка не бочка, а купчиха, поперек себя толще, облапила меня.
— Митя! Родненький, соколик ты мой!
Ну подумайте! Отбиваюсь я, говорю:
— Какой я тебе, мол, Митя! Зовут меня Тихоном, Тишкой.
— Чего ты, матушка, к нему как банный лист пристала? — говорит ей и мой барин. — Он из людей моих…
А она его за полу кафтана, руки целует:
— Батюшка! Дай выкупить его у тебя. Один был у меня после мужа сыночек, да летось его тоже Господь прибрал. И никого–то у меня теперича на всем белом свете! Достатки у меня хорошие, да на кого, сирота, их оставлю?
— Тишка мой на сыночка твоего нешто так похож? — спрашивает барин.
— Так схож, — говорит, — так уж схож: две капли воды!
— Да ведь ты, матушка, никак, из купеческого сословия?
— Из купеческого, батюшка. Свидетельство гильдейское покойный муж кажинный год выправлял…
— Так тебе, по званию твоему, рабов иметь не полагается.
— Да нешто он будет у меня раб? Он будет мне за родного сына.
— Ты, стало, усыновить его ладишь?
— Усыновить, знамо дело, как по закону быть следует. Мое слово твердо. Уступи ты мне его, батюшка! Никаких капиталов не пожалею и век за тебя Богу молиться буду!
Стали они торговаться обо мне, а меня самого даже и не спросят: известно, раб, бесправная тварь! Меня же взяло сумленье: а ну как мне у толстухи все же житья–то не будет? Кто ее ведает, какой у нее еще норов–то!
Почесал я затылок и говорю барину:
— Батюшка барин! Не продавай ты меня сразу, отдай перво–наперво на испытание. Как не придусь ей по нраву, так, того и гляди, замучит еще меня, горемычного, со свету сживет…
— Что ты, милованчик мой! — говорит купчиха. — Бога в тебе нет! Да я мухи, комара не обижу. Так стану ль я тебя к себе на мученье брать? Не махонький ты, слава Богу, разум есть в голове, понимать должен. Будешь ты у меня как сыр в масле кататься, буду услаждать тебя всем, чего только душенька твоя ни пожелает, а придет мой смертный час, так все, что ни есть, тебе же останется…
Наобещала она мне чего–чего, на трех возах не вывезешь, напевала, ну, соловушко, да и только! Развесил я, глупыш, уши, облизываюсь как теленок, которому соли на морду насыпали. Чуть было уже не сдался, да, спасибо, барину все же жаль меня стало.
— Все это, матушка, на словах распрекрасно, — говорит. — А что будет на деле — вперед и знахарка тебе никакая не предскажет. Почем знать, может, Тишка и впрямь тебе угодить не сможет и отвернется от него душа твоя? Дам я его тебе, изволь, на испытание, скажем, сроком на один год, а там виднее будет.
Рассказчик сделал небольшую паузу, чтобы подкрепить себя опять табачком.
— И что же, на том и порешили? — спросил Самсонов.
— На том самом. Взял с нее барин не то задаток, не то плату, с уговором, что если не уживусь я у нее, так она меня удерживать не станет, а он ей денег вернуть уже не обязан. Хорошо. Первым делом повезла она меня в Москву белокаменную, повела по церквам — поклониться святым угодникам за богоданную матушку, а сколько в Москве церквей, ты, чай, слышал?
— И слышал, и видел проездом: сорок сороков.
— Ну, вот. И везде–то свечки ставила, старцев божиих милостыней оделяла…
— Значит, и вправду была сердцем добрая?
— Уж такая ли добрая, что и сказать нельзя, а на меня, мальчугу, просто не надышится. В первый же день купила мне сапоги козловые со скрипом, на второй — балалайку. Насчет же лакомств разных: яблочков, орешков, рожков, винных ягод, пряников медовых — ешь не хочу.
— А из Москвы тебя к себе домой повезла?
— Домой, а дом–то у нее тоже полная чаша, всякого брашна преизобильно. Для меня же еще нарочно и сладкие пироги с вареньем, и оладьи с сотовым медом, и дыня в патоке отваренная, не перечесть! Угощаешься всласть, а она ни шагу от тебя, смотрит тебе в рот, в глаза да потчует:
— Ах ты касатик мой! Яблочко наливчатое! Кушай на здоровье! Не хочешь ли еще чего?
Спервоначалу такое житье мне, что греха таить, полюбилося. Да день за днем все только обжорство до отвалу — невмоготу пришлось. Она же меня все нудит:
— Да что же ты, моя радость, не кушаешь?
— Не могу, — говорю, — матушка, постыла мне эта сладкая жизнь…
— Постыла! Ах ты болезный мой! Знать, тебе нездоровится?
— Здоров я, матушка, здоров, как боров, да обленился уж больно, работу бы какую…
— Владычица многомилосердая! Работу! Малый без году неделя из яйца вылупился, а туда же: работу!
— Да ведь скучно, — говорю, — матушка, без дела–то!
— А скучно, так мы с тобой в фофаны поиграем, «в дурачки», а то я тебе, хочешь, на картах погадаю?
Играешь с ней так час и другой в фофаны, в дурачки, — индо одурь возьмет. А то почнет это раскладывать карты, гадать про деньги, про письмо, про дорогу, а ты сиди около, отойти не моги, не пикни…
Так рассказывал Ермолаич и, по привычке стариковской, повторяясь, возвратился опять к тому, как толстуха его обкармливала любимыми его варениками и бараньим боком с кашей, как отпаивала чаем с медом сотовым, вареньем вишневым, малиновым, смородинным… Самсонов его уже не прерывал. Подперши голову обеими руками и с сомкнутыми глазами, он слушал, а в то же время не мог не слышать и шумевшего на дворе ливня: из водосточной трубы вода так и журчала, так и плескала, и, подобно этой воде, журчал и плескал над ним монотонный старческий голос Ермолаича, утишая своей охлаждающей струей его жгучую душевную боль.
— И чем же все это кончилось, дяденька? — прервал он рассказчика.
— Знамо, чем: выжил я у нее месяц–другой, — и сил моих не стало!
— Утек?
— Утек, грешный человек, подобру–поздорову. Вернулся к старому своему барину, повалился в ноги:
— Прими, мол, назад, батюшка! Не надо мне ее, этой воли, прах ее возьми!
— Да разве то была воля, дяденька? То была неволя горше рабской! Мне нужна другая воля…
— Какая еще? Чтобы знатных людей бить по щекам, а потом с ними стреляться? Ай да воля!