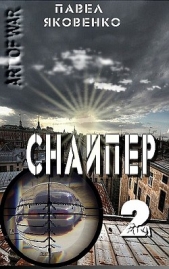Харбинские мотыльки
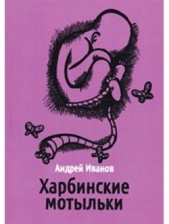
Харбинские мотыльки читать книгу онлайн
Харбинские мотыльки — это 20 лет жизни художника Бориса Реброва, который вместе с армией Юденича семнадцатилетним юношей покидает Россию. По пути в Ревель он теряет семью, пытается найти себя в чужой стране, работает в фотоателье, ведет дневник, пишет картины и незаметно оказывается вовлеченным в деятельность русской фашистской партии.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Ну, что же ты не душишь меня? А? — дразнила она, сама выворачивалась из платья, как змея. — Что же ты никак не задушишь меня? Задуши! Задуши меня! — говорила она, сжимая его набухший член. — О! Умоляю! Задуши меня поскорей! Ну же! — Она елозила, пристраиваясь. — Последний раз, — шептала она, прижимая его к себе, — последний раз…
Почувствовав, что она плачет, он стал слизывать слезы, нанося бедрами удар за ударом…
Ночью ему приснились мотыльки. Они кружили вокруг него, а он их выгонял из комнаты Каблукова. Махал руками. Вставал с топчана, бросался к окошку, отмахивался. А они кружат, кружат… Посередине комнаты сидел Тимофей. На стуле. В руках у него были куклы, обклеенные бумагой со свастикой. Над ним зеленая лампа с красными иероглифами, и снова мотыльки шелестят, вьются, как снежинки над перроном, над могилами, а сани скрипят, копыта стучат, гробы сталкиваются, как вагоны. Сердце бьется, и болит сердце. Везде в комнате были листовки и газеты. У дверей ждали люди. «Ну, что? Вы идете?» Лампа то вспыхивала, то гасла. Мотыльки налетали, как ласточки. «Это к грозе». На глазу у Тимофея была повязка. Читал стихи по-французски:
В кровати лежал Иван. Он был обклеен листовками. Из пустой глазницы вылетали мотыльки.
Борис проснулся от рези в груди. Будто вбили кол в солнечное сплетение. Перед глазами все вертелось. Мотыльки… В голову лезли чужие мысли. Незнакомые голоса наперебой что-то говорили друг другу, а его будто и не было. Наплывали образы, ударяли в грудь, отбегали, смотрели с любопытством. Он ворочался и не понимал: спит или нет? Встал, зажег керосинку. Тени отступили, но светлее не стало. В коридоре что-то поскрипывало. Книги шептались. Вещи подсматривали.
Вышел на улицу. В луже чернота. Вырвало. Горечь в груди отпустила. По дороге ползла мгла. Попил воды из ведра. Умылся. В голове посвежело. Наступало утро. Грязь просыпалась. Поплелся на вокзал. Вслух спрягая латинские глаголы. Светлело. Грязь под ногами принимала все более живое участие, с выражением сопровождала. Хлюпала, улыбалась, поблескивала. Он смело шагал по втоптанным лицам. Шагал, не жалея ног.
Курить не стал. Долго прохаживался по перрону. Остановится, почувствует кол между лопатками и снова ходит. Остановится, вздохнет — боль в груди, и снова идет.
Наконец-то открыли вокзал. Пожилая женщина неопределенной национальности, не замечая художника, протерла пол, пробежалась тряпкой по подоконникам, сняла газетный лист со скамьи. Ворчала себе под нос непонятно на каком языке. Эхо ходило за ней по пятам. Сел, у его ног собралась и дрожала кружевная тень. Ноги ныли. На что-то жаловался желудок. В голове гудело. В глазах двоилось. Стук в ушах. Стук.
В поезде он уснул, и было легко: ему приснилось, что он возвращается из гимназии домой. Дом — теплая точка, к которой приближается поезд. Не проснувшись до конца, он заплакал.
В августе Ребров получил письмо от Тимофея. Каблуков два месяца провел в тюрьме. Денег заплатить штраф так и не раздобыли. Алексей прислал что-то, но недостаточно даже для оплаты долга за квартиру. Выселили. Встали перед глазами наглые хризантемы. Пришлось ютиться больному Ивану в букинистическом. Желудок совсем отказал. Д-р Фогель поместил его в больницу, где туберкулезников лечат бесплатно, больница для бедных эмигрантов. Пошел на поправку. Но надолго ли? Смотреть на это совершенно непереносимо. Я писал его брату, но он не отвечает. На последние пишу Вам, Борис Александрович, так как стало ясно, что до Ивана никому, кроме меня, дела нет, и если я о нем не позабочусь, то никто не поможет. Теперь он ютится в букинистическом магазинчике, а там холодно (сами знаете), к тому же у нас этой весной опять случился потоп, если помните, и букинистический затопило, с тех пор никто его не протапливал как следует, потому что Вере Аркадьевне не до того, стоял он закрытым все это время, и теперь там сыро, всюду плесень: ему там совсем невозможно. Я временно у Веры Аркадьевны. Ищу работу. Улицы грязные, и без хороших сапогов некоторые улицы не пройти совсем. Обещали в типографию взять, но я этому ремеслу не обучен, потому первое время буду совсем мало получать. Есть опасение, что и того не будет: в наши дни мало кому платят. Сами понимаете. Не могли бы вы нам немного прислать денег, чтобы подыскать жилье? Если не сможете, я пойму, потому что кругом эмигранты без языка обречены на нищенское существование, обещаю также, что если не сможете помочь, письмо будет между нами. Мы начинаем работать над игрушками, но дела наши пока идут медленно.
Кунстник порвал письмо и бросил в печку. В эти дни слег и Николай Трофимович. Борис забегал. Николай Трофимович напоминал ему о гражданстве; каждый раз одно и то же:
— Медлить нельзя, подавай прошение! Начинай хлопотать! В газетах пишут: тех, кто не подал ходатайства, попросту вышлют в провинцию из городов! На острова! И что ты там делать будешь?
Борис перестал к нему ходить. Француз собирал чемоданы.
— Пора домой, — говорил он посреди полупустой квартиры, — сделаю, наконец, выставку.
Купил у Бориса все дагеротипы и несколько картин. В ресторане «Кунинг» устроили прощальный ужин, обедали вчетвером: Тунг-стен, мсье Леонард, Борис и Тидельманн, — провожали мсье Леонарда. Борис сжался, когда Herr Tidelmann, будто шутя, сказал, что его ателье тоже больше не приносит дохода — не закрыть ли его совсем?.. Внутри все обмерло: такого он и вообразить не мог! Даже руки с бокалом не донес до губ — поставил на стол. Тидельманн посмотрел на него и опустил глаза, и художник понял, что он не шутит, — хрустальные люстры, фарфор, гобелены — вся театральная роскошь ресторана померкла, слиплась и встала в горле комом. Выпил, поперхнулся, закашлялся.
— Видите ли, Борис, — сказал Тидельманн, похлопывая художника по спине, — немцев в Эстонии остается все меньше и меньше. Сами видите, какие наступают времена… Эстонцы к нам ходят все реже и реже, предпочитают своих.
— Понимаю, — отвечал Борис, сильно смущаясь.
— Я слышал, Кюниг тоже собирается закрывать, — вставил мсье Леонард, показав пальцем в сторону дверей, что вели в кухню ресторана, намекая таким образом на хозяина.
— Да, я тоже, — сказал, сурово кивая, герр Тидельманн, и снова посмотрел на Бориса: — Слишком много открылось студий и ателье в последние пять лет. Для такого маленького города, как Таллин, слишком много, мой друг.
Мсье Леонард подхватил: рекламы, аренда съедают всё!
Включился швед: да… рекламы, рекламы…
— Штат сократили, производительность упала, — объяснял Тидельманн шведу с французом, — арендная плата растет не по дням, а по часам. — Те только кивали, а Борис лихорадочно думал: куда бежать?.. где искать?.. — Материал, оборудование… — перечислял немец.
— Да, — кивали швед и француз, — простая арифметика…
— Именно, простая арифметика!
Эх, как они легко поняли друг друга! — подумал Ребров.
Через несколько дней на двери появилось объявление о распродаже инвентаря, объявление было на двух языках: немецком и эстонском. Слетелись конкуренты с Никольской, Lehmstrasse, Suur Karja [80]. Торговались, брали дорогое оптическое оборудование за бесценок; выносили «юпитеры» и лампы, шкафчики и этажерки, с которых забывали снять коробки и ванночки; выторговывали закупленный материал: пигменты, гуммиарабик, бромосеребряную бумагу, кровяную соль, берлинскую лазурь, желатин, литографскую краску, лампы, фоны, задники; расчетливый антиквар купил штативы Клари и светоотражающие экраны, изготовленные черт знает когда. Во время проявления к Борису в лабораторию вошел герр Тидельманн и вынес красную лампу, а за ней и старинную камеру обскура. Последний рабочий день в ателье закончился кошмаром: грандиозный задник с иллюзией Елисейских Полей треснул в руках пьяных носильщиков и сложился, как крылья бабочки. Защемило сердце, художник поторопился выйти; не услышав колокольчика, не стал придерживать дверцу — пусть грохнет! Пусть провалится!