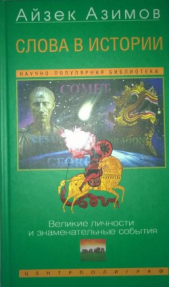Человек из Афин

Человек из Афин читать книгу онлайн
Исторические романы Георгия Гулиа составляют своеобразную трилогию, хотя они и охватывают разные эпохи, разные государства, судьбы разных людей. В романах рассказывается о поре рабовладельчества, о распрях в среде господствующей аристократии, о положении народных масс, о культуре и быте народов, оставивших глубокий след в мировой истории.
Место действия романа «Человек из Афин» – Древняя Греция второй половины V века до н. э. Писатель изображает время Перикла, высшую точку расцвета Афин.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Ксантипп вытер лицо полою плаща.
– И все это потому, – неясно выговорил он, – что нас ненавидит мачеха.
– Кого это нас?
– Меня и мою жену. Вот маленький Перикл, вот Парал – дело другое. Им все можно! Женятся они – и все будет по-иному! И деньги у них водились бы. Не в пример мне!
– Деньги учитываются строжайшим образом, Ксантипп. Деньги не морской песок. Я не позволяю себе излишней роскоши. Я не могу разрешить этого и кому-либо из своих близких.
– Потому что ты скуп! – проскрежетал сын.
Отец, казалось, вовсе не обиделся. Он терпеливо продолжал свои объяснения:
– Нет, скупость здесь ни при чем. Начнем с того, что я не очень богат. Я не могу идти ни в какое сравнение, скажем, с Кимоном. У него – серебро и золото. С тобой я могу поделиться опытом. Могу присоветовать кое-что полезное. Впрочем, как и Паралу, который сейчас болеет. Но никому не могу обещать золота. Ни серебра. Ни одного обола сверх того, что выдается тебе и другим домашним. На этот счет Евангел имеет точные указания.
– Нет хуже раба, который получил чуточку власти! – зло воскликнул сын.
– Не говори так, это несправедливо. Евангел в точности следует моим указаниям. А мне нельзя иначе. Потому что каждый должен распоряжаться тем, что заработал сам, своими руками, своим горбом.
Ксантипп мотнул головой, словно упрямая лошадь:
– Проклятая жизнь! Я не могу разрешить себе лишнего глотка…
– Я бы этого не сказал.
– Это только благодаря щедрости моих друзей. Это они жалеют меня…
– Проклятая жалость!
– Без них я бы вовсе пропал. Кругом болтают, что мачеха нас окончательно раздавила. Я и моя жена влачим жалкое существование. И пальцем на нас каждый указывает: дескать, вот они, близкие родственники великого Перикла! Вот они, которые живут под одной крышей с великим Периклом!
– Теперь я не велик. Я теперь никому не нужен, и власть моя – в прошлом.
– И все-таки народ болтает так, как передаю. Мне трудно спокойно пройтись по агоре́. Меня донимают расспросами: «Почему бос?», «Почему гол?», «Почему без обола за душой?»
– Не слушай их.
– Это мне твердят на каждом шагу!
– Перемени свою дорогу.
– Мне уж некуда ходить. Я живу в Афинах. А ты хотел бы, чтобы я уехал в Колхиду или на Сицилию? Хотел бы?
И отец ответил не колеблясь:
– Да.
Сын не поверил своим ушам.
– Чтобы сгинул навеки?
– Да.
– Чтобы погиб в пути?
– Нет. Зачем же. Плавают же люди. И не только в Колхиду или Сицилию. А значительно дальше. До Геркулесовых столбов.
Сын криво усмехнулся:
– А не проще выдать мне денег на новые башмаки?
– Нет, не проще…
– И немного денег на вино?
– Нет, не проще.
– Отец, а ты проклятий не боишься?
– Нет.
– Ничьих?
– Нет, ничьих.
– Это почему же? Разве ты такой уж сильный? Скажи мне, почему не боишься проклятий? Каждый боится! Потому что каждый думает об Аиде, где бродят мертвые тени. Надо же заработать себе спокойствие на вечность… Надо же…
– Я отвечу, если дашь возможность ответить.
Ксантипп махнул рукой:
– Пожалуйста, говори. Я слушаю.
– Так вот что: я не боюсь проклятий.
– Почему?
– Потому что проклят.
Ксантипп не понял отца:
– То есть как это проклят? Кем?
Отец приподнялся. Губы у него стали тонкими, и они едва заметно дрожали. Он протянул правую руку вперед. Пальцы тоже дрожали. Левую руку приложил к сердцу, которое учащенно билось.
– Я проклят тобой, – сказал отец тихо, но внятно, – я проклят ими, – он показывал пальцем прямо перед собой, мимо Ксантиппа. – И теми, которые далеко отсюда… Ты понял меня?
Пьянице сделалось плохо. Ему вдруг стало страшно. Он попятился назад и сказал:
– Да, понял.
Хотя ничего не понял. Да и не мог понять.
Книга вторая
Она вошла и стала за его спиной. Он не видел ее, но узнал: это она, только она! За девятнадцать лет он так привык к ней, к ее шагам, к шуршанью ее платья и к ее ароматическим маслам!
Едва входила в дом, он уже знал – это она! По скрипу ворот догадывался. По тем совершенно таинственным флюидам, которые излучало ее сердце, ее тело, – такое же молодое для него, как и девятнадцать лет назад, – догадывался! На что только не способна любовь! Разгадать извивы ее невозможно. Проще отыскать секрет мироздания.
Склонился над чистой книгой из кожи и неторопливо водил заостренным тростником, кончик которого в черной краске. С ним это случалось редко – только перед выступлением в Народном собрании. Писание книг он считал уделом людей тщеславных, заботящихся больше о своей посмертной славе, нежели о каждодневном радении о благе народном. Неужели Перикл, вопреки своему твердому убеждению, начал писать книгу о себе, заботясь о посмертной славе?
Он повернулся к ней. Улыбнулся. И сказал:
– Ты удивлена? Ты думаешь: «Вот и его посетило тщеславие». Скажи мне: не так ли?
– Да, – призналась она.
– Вот видишь, Аспазия, как легко и просто прилетают ко мне твои мысли.
Она была словно богиня – нежная и милостивая. Она положила руку ему на голову, едва касаясь волос, в меру жестких, в меру податливых.
– Они всегда летят к тебе, – проговорила она. – Мои мысли всегда о тебе. Поэтому ты легко обо всем догадываешься. Мое желание таково: быть всегда для тебя открытой.
Он отблагодарил ее улыбкой – немного грустной, немного светлой. В нем было много детского. И она порою чувствовала себя матерью его. Он во всем доверял ей. По-сыновнему. Что еще больше обостряло это ее ощущение.
Аспазия села напротив него.
Перикл сказал:
– Я провожу небольшое испытание. Один старец попросил меня испробовать нечто, что превосходит по своим качествам египетский папирус. Стиль для него уже непригоден. Приходится оттачивать тонкий болотный камыш и макать в чернила. Удобство перед дощечками очевидное, но этот запах…
Перикл протянул жене гибкий лист, цветом напоминающий желтоватую деревянную дощечку. На нем ясно обозначались письмена. Но этот запах…
– Что это? – сказала Аспазия, отстраняя от себя неприятный лист.
– Кожа, – ответил Перикл. – Обыкновенная телячья кожа. Она обработана особым способом и высушена. Но не очень хорошо отбелена. Ее удобно сшивать в книгу, и она, несомненно, долго сохраняется. Раньше у меня не было времени, чтобы проверить изобретение старца. Но теперь я могу себе позволить такую роскошь.
– Этот вонючий кусок кожи меня не вдохновляет, – сказала Аспазия.
– И меня тоже. А посему отвечу старцу так: восковая дощечка меня устраивает больше.
Аспазия сказала:
– Едва ли удовлетворит старика такой ответ. Изобретатели – ужасны, их упорство прошибает стены. Он не оставит тебя в покое.
– Не думаю. Кто я теперь для него? От моего решения ничего не зависит.
– Ты увидишь: он не отстанет!
– Тем лучше. – Он снова обратил внимание на кожу. – Какой ужасный запах! Я не хотел бы иметь библиотеку из таких книг. Но этот старец возразил мне. «Тебе, говорит, придется согласиться со мной в тот прекрасный день, когда своенравный египетский правитель лишит нас папируса». Спрашиваю: «А почему лишать нас папируса? С таким же успехом мы можем лишиться и египетского хлеба». – «И лишитесь!» – не без удовольствия воскликнул старик.
Аспазия сидела вполоборота к мужу. Свет на нее падал справа и сверху. Это тот дивный свет, который придавал ее чертам неувядающую красоту, оттеняя то, что особенно привлекает в женщине: гладкость кожи, мягкость линий и легкую поволоку в глазах. В сорок пять лет Аспазия оставалась Аспазией – красивой и нежной, умной и желанной…
– Когда приходил этот старик?
– Может быть, год назад, – ответил Перикл.
– И ты вспомнил о нем только сейчас?
– Увы!
– Где он? В Афинах?
– Может быть, умер.
– Дай мне эту кожу.
Аспазия взяла ее в руки, определила на глаз тонину, испытала гибкость ее.