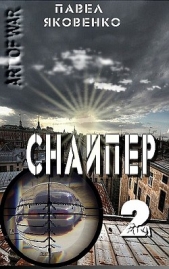Харбинские мотыльки
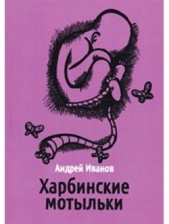
Харбинские мотыльки читать книгу онлайн
Харбинские мотыльки — это 20 лет жизни художника Бориса Реброва, который вместе с армией Юденича семнадцатилетним юношей покидает Россию. По пути в Ревель он теряет семью, пытается найти себя в чужой стране, работает в фотоателье, ведет дневник, пишет картины и незаметно оказывается вовлеченным в деятельность русской фашистской партии.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Каждый вечер, когда ребенок засыпал, Стропилин вставал за конторку и писал — либо свои заметки, либо письма. Писать на сон грядущий вместо чая было лучшим лекарством от бессонницы и скоро сделалось привычкой (ревельской привычкой, подчеркивал он). Как-то в разговоре с Ребровым он обронил:
— Возможно, это что-то вроде хроники, и бросить это уже нельзя, да и от меня тут, по сути, совсем ничего не зависит: начатое дело предполагает рабское служение.
С этой мыслью он не расставался; в своих собственных глазах он стал летописцем.
«…у нас так и чихвостят Шульце, никак не забудется снос часовни на Русском рынке, и "Жизнь” совсем не выходит с тех пор. С церквами у нас беда — местное население объявило сбор средств на снос всех православных церквей, и еще у нас свара между своими из-за приходских денег, грозит затянуться настоящей тяжбой, дело прямо безобразное, громкое, всем вокруг видное и далеко слышное (мой домовладелец — известный всем человек — в этом принимает активное участие, что расстраивает меня безмерно: как тут не оступиться — семь раз думаю, прежде чем что-то сказать). Пресса разделилась. Хоть не бери газет в руки! Кроме всего прочего, все чаще с восторгом пишут о Муссолини и пр.: Пильский, Яров, Терниковский, монархисты, евразийцы и пр. Кстати, о Терниковском разговор особый: в Эстонии с дореволюционных времен, состоял юрисконсультом при штабе ген. Булак-Балаховича, пишет во все газеты, скандалист, интриган, то евразиец, то монархист-николаевец, недавно по роже съездил Протасову из-за стихов одной из своих любовниц — не скрывает своих связей — все на виду, противный, пузатенький, неотесанный. Протасову намеренно нанес публичное оскорбление, чтоб все ощутили его отчаянность, всем дал понять, что из-за женщины, а не из-за той статейки в “Посл. изв.”, как многие говорят. Кстати, Федоров и Терниковский, хоть и ненавидят друг друга, но все-таки оба обожают Гиппиус, нахваливают ее "Черную книжку”. Если Федоров — "тихий омут”, то Терниковский — настоящий истерик: недавно с докладом о “национальной русской идее” выступил в кинотеатре Passage, затем делил мир в Русском клубе, чуть позже там же устроил представление своей пьесы, вернее — даже и не знаю, как выразиться: он сам все написал, сам делал постановку, если можно это назвать постановкой, и сам играл. Пьеса отвратительная. Назвал он ее “В омут с головой”. Лучше б тогда: “В колодезь кувырком”! Смотреть было скучно и даже противно. Одна пропаганда. Особенно в четвертом отделении — сплошные реплики из его дурацкой газетенки “Русский голос”, которая была открыта на чужое имя, — какая-то Каплан, говорят, старушка с острова, — на нее Терниковский все оформил и опять за свое:
Великий Князь Николай Николаевич! Великое Возрождение Единой и Неделимой! Да здравствует Россия! Балтийским республикам обещает независимость в будущем. Газетку быстро прикрыли. Он открыл новую! Пьеса его заканчивается арестом редактора, сидит он в карцере и поет: "Боже, Царя храни!” Так все монархисты (а ими был зал битком) встали и подхватили!
Афишу к пьесе нарисовал Ребров, был он с Левой Рудалевым, оба смеялись и — слава богу — с кресел не поднялись подпевать, остались сидеть. Вру! Борис ушел с третьего отделения. Лева сидел недалеко от меня с отцом: Дмитрий Гаврилович пел, а Лева нет.
За Левой я наблюдаю последние лет пять; пишет мало и все ерунда; есть еще группа лиц, которые во многом похожи на него, — суммируя свои наблюдения, я пришел к выводу, что счастье неотделимо от родины; проживание в своем гнезде, в родном краю — вот что и только делает человека счастливым: это фундамент, на котором происходит устроение всей жизни; гармоническое существование обусловлено самой природой, посреди которой предки человека тысячу лет жили, жали, пели, собирали грибы-ягоды, охотились, влюблялись и т. д. — знание подобных вещей из поколения в поколение въедается в кости, сообщает уверенность и спокойствие (а без этого счастье немыслимо). Рудалев Л. не может найти гармонии в Ревеле, несмотря на то, что его отец богат, Л. не занимается устроением своей жизни, но наоборот — разрушением оной (доказывая мою теорию).
О Борисе Реброве скажу так: Ломброзо, как известно, обнаружил, что некоторые типы людей вследствие анатомического уродства ведут себя в обществе как-то иначе, потому как чувствуют и воспринимают мир не так, как люди обычные; Борис, как нам известно, был психически изуродован драмой, когда ему было шестнадцать, что ли, так что по-своему он тоже калека и — почему не допустить, что: думает, чувствует и — соответственно — ведет себя иначе, и другого подхода к себе требует. Только так я объясняю его непредсказуемость и неприступность и этот выверт в поведении. Потому ключ к нему подобрать очень трудно. Последний раз он был в очень странном состоянии. Я пытался его расшевелить, но — увы — пришлось опять ограничиться присутствием при его монологе, или беседе его с самим собой. Он ни на секунду не заметил меня. Говорил с собой и только. Когда я побывал у него, очень многое подтвердилось из того, что я предполагал. Все-таки он очень неустроен, и нескладность его жизни, обстоятельств и даже фурнитуры — не только в комнате, но и улица, где стоит этот старый деревянный дом с замызганными окнами, винтовая дряхлая лестница, что ведет со двора в его комнатушку, и улицы, что примыкают, те маршруты, которыми он ходит, и те места, где я его встречаю, — все исходит из его телесной угловатости; тут не только неуклюжесть походки (у него что-то со стопами), но и пальцев, которыми он что-нибудь постоянно мнет (бумажный катышек, сигарету, коробок). Все это привожу в подтверждение моей теории…»
Стропилин разругал мой рассказ. Сказал, чтоб переписал. Лева успокоил:
— Я ему как-то принес один и тот же рассказ не переделав, так он воскликнул: «О! Вот это да! Это совсем другое дело!» Хотя там никакого другого дела не было — там был тот же самый рассказ!
Лева говорит, что все — ерунда. И это не нигилизм. Лева так говорит: испепелить себя, и чем скорей, тем лучше. Я этого не понял. Он сказал, что его наполняет туман.
— С каждым днем больше и больше меня наполняет густой плотный туман, который пеленает меня. Я даже видеть стал хуже!
Я сказал, что тоже вижу хуже, но это может быть из-за работы — все время в темноте провожу. И добавил, что он наверное визионер. Ему надо стихи писать. Он импульсивный, и у него глаза навыкат. К тому же — тонкая кожа, белая-белая, и очень сильно видны вены под ней. Костистый и угловатый. Худой. Он остался у меня. Пили вино до глубокой ночи и жгли дрова. Пили вино, читали стихи, он дрожал, когда говорил о матери, его на самом деле сильно колотила боль по матери, у меня встали слезы, он понял, что я переживаю, и перестал. Мы долго смотрели на огонь, курили. Скурили весь табак. Он спал на кушетке. Я, не раздеваясь, лег на столе: постелил на стол второе одеяло, накрылся старой шинелью музыканта, который тут жил. Луна была яркая. Ногами в окно лежал и смотрел на Луну. Придумал стих:
Второй день простужен. Пью горячий чай с вареньем и медом (спасибо фрау Метцер!), не курю вторые сутки, и не тянет, нет привычки, баловство, вино пью и сочиняю поэму — будет что-то, Лева подивится, есть чем поразить скептика. Хорошо бы этот вечер так и тянулся, с вином и поэмой, — так много там еще: весь Павловск, все картинки, дагеротипы, все мы, все живы!
Гуляли с Н. Т. У театра встретились с его друзьями, некто Соловьевы, петербургская интеллигенция, сели на автобус и поехали в Екатериненталь. Было это неожиданно и приятно. Совсем новый «Mootor», красивый, лакированный, просторный, быстрый. Водитель в кепке с золотой косичкой над козырьком, в отутюженной форме с блестящими медными пуговицами, как игрушечный. Гуляли в парке, и оттуда пошли пешком к речке. Хотели кататься на лодках, но передумали. У моста были поэты, которые прочитанные ими стихи складывали в кораблики и пускали по воде.