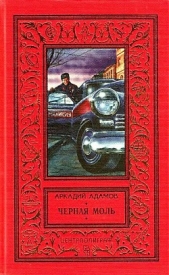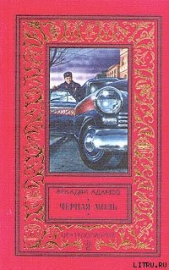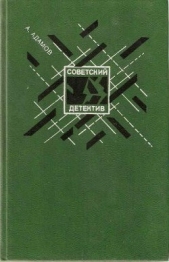Моль
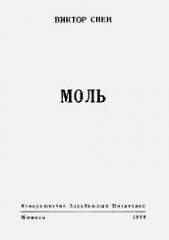
Моль читать книгу онлайн
Не без колебаний и сомнений Автор взял и сделал главной фигурой своего действа Леонида Николаевича Решкова, вначале - то есть в 1905 году - бывшего восьмилетним Ленькой, случайным сыном портовой девки.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Тобаридзе поднялся и ушел. Когда за ним захлопнулась дверь, Булдиха развела руками:
— Вот это да! Не пара вам всем. Вишь, приказал пить за упокой души Уходолова…
И они действительно пили. Но как-то скучно, без разговоров.
Где-то около полуночи кто-то стукнул условным сигналом. Булдиха всполошилась.
— Может облава? Смывайтесь!
Они нырнули к запасному выходу. Это был даже не выход, а низкое, на уровне земли, небольшое окно, заложенное кирпичами, а с внешней стороны заваленное разным мусором.
Притаившись, вытащив пистолеты, они прижались к стенке. Когда звякнул засов, они услышали тихий вскрик Булдихи.
От стены оторвался Атаманчик и с пистолетом в руке пошел на шум.
Перед Булдихой стоял Уходолов.
— Сеня, — прошептал Атаманчик, — Семен Семенович! Да это же просто невозможно…
— Что невозможно? — обнимая его, спросил Уходолов.
— Да всё. Вот сколько мы о тебе говорили, даже совсем недавно. Я, значит, говорю о тебе, как о живом, говорю о живом Уходолове, а про себя думаю, что нет тебя и никогда не будет. Говорю, сам себя обманываю, что живой ты, а вижу тебя таким…
— В расход списанным? — подсказал Уходолов.
— А ты вот здесь, Семен Семеныч! Вроде бы совсем такой, как прежде, — шептал Атаманчик, разглядывая Уходолова. — Такой ты, как прежде, Сеня, и… нет, другой ты, окончательно иной. Что с тобою было?
Уходолов прижал к себе Атаманчика и сказал:
— Иной — это верно. Другой я стал, а что было со мною, Атаманчик, об этом тебе всё до конца выложу. После. А сейчас, смотри, вот и Ступица… и вроде бы даже трезвый, — усмехнулся Уходолов. — Давай руку, Ступица!
Обнял Уходолов Ступицу, а потом спросил:
— А это кто?
— Ну, это Другас, — ответил Ступица, — новый у нас. А вот ты увидишь, Уходолов… такого увидишь… Вот это да! Окончательно интеллигентного. Дикого Барина увидишь. Он, понимаешь, тебя не знает, Уходолов, а любит тебя, об тебе приказывает песни складывать. Вот он какой, этот Дикий Барин. А по фамилии совсем чудоресный! Тобаридзе. Прямо герой кавказский!
— Тобаридзе? — повторил Уходолов и зажмурился, словно вспоминая о чем-то. Потом открыл глаза, повернулся к Атаманчику и переспросил:
—
Тоба-ри-дзе?
—
Тобаридзе, — подтвердил Атаманчик.
Тут можно было бы добавить строчки о том, как Уходо
лов опять вошел в свою прежнюю жизнь и занял в ней свое
место. Всё это произошло легко и естественно, и потому Ав
тор опускает эти строчки, чтобы сразу перейти к знамена
тельному событию, — кстати, по времени совпавшему с воз
вращением Уходолова в мир Атаманчика и Ступицы, — ко
торое покажет
—
Движение Решкова к своей гибели
Трудно отказаться от мысли, что случайное совпадение торжеств в связи с пятидесятилетием со дня рождения Сталина с обычным, ни в какой истории не отмеченным, тридцатилетием Леонида Николаевича Решкова, имело самое непосредственное отношение ко всему последующему, к событиям, быстро приближавшим тот
эпизод,
после которого уже исчезнет нужда говорить о Решкове.
Юбилею Сталина предшествовало, в частности, награждение многих чекистов. А так как орденом был отмечен и Решков, то кто-то и установил «историческое совпадение» двух дат: дня рождения великого вождя и дня рождения Леонида Николаевича Решкова.
Поздравления с орденом и с «историческим совпадением» закончились тем, что Решков устроил вечеринку, пригласив к себе Председателя и нескольких очень видных сотрудников.
Приглашенные заполнили квартиру Решкова в точно установленный час.
Было много шума, оживленных, откровенных, полупьяных разговоров с бахвальством, с тостами в честь вождя и строительства «нового мира».
Пировали долго.
Под утро, когда за последним гостем закрылась дверь, Решков остался один в своих комнатах. Сразу наступившая тишина, так показалось Решкову, бросила его в безнадежную, бессмысленную пустоту, наполненную густым табачным дымом.
«И это всё? — с недоумением спросил себя Решков. — Дым — и больше ничего?»
Решков оглянулся. Бутылки на столе и стаканы с остатками розоватого вина, пятна на скатерти и тарелки с закуской — всё это выглядело не настоящим, фальшивым, как в неумело построенной декорации к пьесе, изготовленной бездарным драматургом.
Об этом подумал Решков, обведя глазами пустую комнату, в которой еще так недавно было и движение, и смех, и живые люди.
Он представил себе этих
живых
людей, пивших, гоготавших, похвалявшихся своей работой с такой жуткой откровенностью, как будто речь шла не о чьих-то жизнях, обрывавшихся в подвалах Лубянки, а о слизняках, случайно подвернувшихся под сапог.
Его гости уже, вероятно, добрались до своих постелей и уснули. А вот он сам, точно такой же, как они, стоит посреди комнаты, разглядывает остатки закусок на столе и думает о том, что здесь, в табачном дыму, висят еще и слова и смех, особенно раскатистый, когда заканчивались рассказы начальника секретно-оперативного отдела или следователя по особо важным делам.
Да, конечно, смеялся и он, Решков. Вспомнив о своем смехе, он невольно восстановил картину того, что тут происходило совсем недавно.
Вот здесь сидел начальник оперативного отдела, изображая ярославского мужика-бородача, не побоявшегося на допросе заявить: «Ты пойми такое. Ты мне шьешь контрреволюцию и поставишь к стенке за антисоветскую агитацию. Ты уже записал, что я враг той счастливой жизни, к которой ведет партия. Ты это доказал, а я, значит, сознался. К тому моему сознанию добавь: если б о счастье человеческом перестали толковать на съездах и счастье объявлять в программе устройства земного рая — полегче жилось бы человеку».
Над философией ярославского мужика дружно потешались.
А вот здесь сидел следователь по особо важным делам, только что закончивший «дело профессоров».
— Враги признались, — говорил следователь. — Только философия их была посложней ярославца. Они — враги идеологические. Они — против диктатуры пролетариата.
Они утверждали, что пролетариат тут ни при чем, что партия, прикрываясь такой диктатурой, стремится создать духовно жалких рабов, этих рабов выдавая за «нового человека». «Нового человека», — заявляли профессора, — никогда не будет. А старый человек, естественный продолжатель рода человеческого, тяжело болен болезнью, насильственно привитой ему. Это — болезнь духа. Чтобы покончить с этой болезнью — надо начинать издалека. Для лечения — нужно много времени: надо лечить не болезнь — говорил Боткин — надо лечить человека.
Хохотали над профессорской философией. Хохот поддерживал и он, Решков, а вот сейчас, наедине с самим собою, злобно улыбался над самим собою, над всей своей изуродованной, дикой жизнью, наполненной ложью.
Странная это была улыбка. В ней была ненависть к тем, с кем он пил за здоровье вождя, презрение к себе и ко всему тому миру, в котором он жил. Чувство презрения и ненависти усиливалось еще и сознанием, что он, Решков, видел лгущим не только себя, но и всех, сидевших за этим столом.
«Подожди, — вдруг сам себе сказал Решков, — кто это первым потянулся ко мне с дурацким поздравлением по поводу „исторического совпадения“ дней рождения, заодно напоминая об изменнике и предателе Суходолове?»
Решков потер пальцами виски, но так и не смог решить, кто первый начал разговор о Суходолове. А может быть такого разговора и вообще не было? Эту мысль он тут же отбросил, вспомнив реплики, в которых мелькало имя Суходолова-Уходолова… А потом, Да, потом сам Председатель усмехнулся и сказал:
— Дельный у тебя был помощник, Леонид Николаевич.