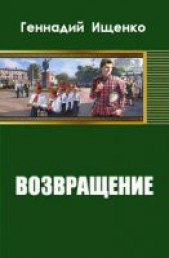Я ищу детство
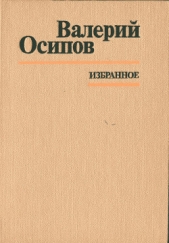
Я ищу детство читать книгу онлайн
Московский писатель Валерий Осипов (1930–1987) буквально ворвался в литературную жизнь конца 50-х годов своей удивительно свежей, талантливой повестью «Неотправленное письмо».
Кроме нее в «Избранное» Валерия Осипова вошли повести «Только телеграммы», «Серебристый грибной дождь» и роман «Я ищу детство».
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Вокруг нас никого не было, не слышно было ни шума машин, ни звонков трамваев. Только птицы летали над головой, «развешивая» звонкими голосами на ветках затейливые «кружева» своих рулад и трелей.
Кусты и подлесок светились соками набухающих почек. Невидимый дух пробужденья бродил среди берёз и клёнов. Веяло теплом. Трепетно шурша, серебристо цвели осины. Иногда сквозь густой ельник протягивался безукоризненной прямизны электрический шнур — солнечный луч, и тогда красными свечечками вспыхивали молодые шишки, а старые, жёлтые, — лопались с лёгким треском, словно кто-то стрелял из игрушечного пистолета, чешуйки шишек оттопыривались, и, как с замаскированных аэродромов, из-под них вылетали похожие на маленькие самолётики крылатые семена — новые еловые жизни.
Солнце всё выше и выше подпрыгивало над верхушками деревьев и наконец поднялось совсем. Рыжая голова Алёны вспыхнула золотым костром. Не выдержав, Алёна отпустила велосипед и вприпрыжку побежала по тропинке вперёд. Я молча смотрел ей вслед.
Алёна очень изменилась за зиму. Ещё осенью она вернулась в Москву уже вполне взрослой девушкой, а теперь, семейная, ранняя сигалаевская женственность совершенно открыто просилась из неё наружу — как лепестки лилии из плена плавающих на воде круглых зелёных листьев, как первые взмахи крыльев трепетной бабочки, рвущейся из тесного и шершавого костюма бывшей гусеницы.
У нас с Алёной были странные отношения. О прежней простой дружбе, конечно, уже не могло быть и речи. Во-первых, потому, что мы учились теперь в разных школах. А во-вторых, потому, что я уже больше не ходил к Алёне делать уроки — парту заняли подросшие младшие сёстры Тамарка и Галочка. Да и уроки у нас теперь были разные, как стало разным многое после двух лет жизни в разных концах страны — без Москвы и Преображенки.
В начале сорок четвёртого года в Москву с фронта приехал Леонид Частухин. Он был отозван из армии для работы в милиции.
Семья Частухиных за два с половиной года войны пострадала в нашем подъезде сильнее всех. В сорок первом под Волоколамском погиб в ополчении Евдоким, через три месяца попал под электричку Генка Октябрь, а осенью сорок второго умерла от сердечного приступа мать Лёньки и Генки, жена Евдокима. Зина Сигалаева, оставшись одна в квартире (она не уезжала в эвакуацию), стерегла её всю войну.
Мы часто ездили с Алёной в Сокольники. (В Измайлово я ездить не мог — воспоминания о майоре Белоконе обступали со всех сторон.) Ходили по аллеям и просекам и молчали. Иногда говорили о чём-нибудь незначительном, об уроках, о школе, но больше молчали. Нас ещё тянуло друг к другу по старой привычке, но оба мы, очевидно, уже понимали, что детская дружба наша кончается.
Вернее, она не кончалась, а переходила в какую-то новую стадию. Мы повзрослели, и в наших отношениях требовалось уже что-то иное, недетское. Но чем именно должно было быть это иное, мы ещё не догадывались. Обыкновенное ухаживание, наверное, рассмешило бы Алёну — когда-то мы с ней в детском саду сидели чуть ли не на соседних горшках. Да я ещё и не знал как следует, что это такое — ухаживать за девчонкой.
Алёна была для меня не просто девчонкой. Она была человеком из моего детства, она была представительницей семьи Сигалаевых, Одной из сигалаевских сестёр. А семья Сигалаевых была символом моего детства. Сёстры Сигалаевы были источником и объектом моих первых чувств — они формировали мои чувства.
Семья Сигалаевых была для меня, росшего без братьев и сестёр, первым образом коллективности человеческого рода, первым образом нерасторжимости и спаянности человеческих уз, первой моделью дружного и красивого человеческого общества, возникшего и объединившегося по законам любви, уважения, преданности, справедливости.
Семья Сигалаевых была для меня образом мира до войны и без войны. И та вспышка чувств, которая произошла между мной и Алёной в день её приезда в Москву (в день похорон майора Белоконя), была вспышкой тоски по жизни до войны и без войны, наивной надеждой на то, что встреча с Алёной в один из самых горьких дней моей жизни вернёт мне страну моего детства такой, какой она была до войны.
Но Алёна взрослела с каждым днём всё сильнее и сильнее. Жизнь шла вперёд, а не назад, как мне этого хотелось в детском моём неведении.
Жизнь шла вперёд, и никогда уже не могло вернуться довоенное детство. Война отбила рубежи необратимых разрушений человеческого бытия.
Алёна уходила от меня дорогой ускоренного войной развития своего естества, и мне, её сверстнику, уже было не идти рядом с ней. Война, ускорив и моё развитие, уводила и меня в другую сторону. Война ускорила конец нашей дружбы, разведя нас по разным тропинкам наших предназначений.
Алёна уходила от меня, и семья Сигалаевых уходила от меня, и это означало, что детство моё кончается. А мне так хотелось, чтобы страна довоенного детства вернулась хотя бы ненадолго после двух с половиной лет войны — как награда или, может быть, утешение за эти два с половиной года нашего катастрофически ускоренного созревания, к которому мы, конечно, не были готовы, как никогда не бывает готов человек к любой катастрофе.
…Алёна шла по тропинке назад, шла ко мне. Она положила руку на руль велосипеда и сказала:
— Поехали домой…
И я снова посадил её на раму, и снова её золотистые волосы пушистой волной обвивали моё лицо, и светло-зелёная дымка нашей прощальной весны сорок четвёртого года окружала нас со всех сторон. И мы возвращались из весеннего леса надежд назад, домой, в мир наших будущих, уже недетских забот и тревог.
Мы выехали на Олений вал, снова проехали мимо Оленьих прудов и по Краснобогатырской улице подъехали к Преображенской площади.
— Я здесь сойду, — сказала Алёна, — остановись.
Я остановился. Алёна спрыгнула с рамы. Мы посмотрели друг на друга и, наверное, поняли, что сегодняшний весенний день был особым днём нашей жизни.
— Я не хочу, чтобы мои видели нас вместе, — сказала Алёна.
Эти слова сказала та самая Алёна, с которой мы четыре первых наших класса на глазах у всей семьи Сигалаевых делали вместе уроки, сидя рядом друг с другом за партой в квартире Сигалаевых.
А теперь она не хотела, чтобы нас видели вместе.
— Почему? — туповато спросил я, наклонив, как несмышлёный бычок, голову вниз и вперёд.
— У нас сейчас всё перемешалось, — сказала Алёна, — мать всех ругает, особенно Тоньку и Зинку. А мне сказала, что, если увидит с каким-нибудь парнем, убьёт! А ведь мы с тобой в одном подъезде живём…
— Пускай только попробует! — сжал я кулаки.
— Не надо, — улыбнулась Алёна, — она психованная стала, наша мать. Ей ведь досталось с нами со всеми.
Предчувствия мои сбывались — наши дороги с Алёной расходились всё дальше и дальше друг от друга. Перед самыми экзаменами она вдруг бросила школу и поступила в ремесленное училище.
— Зачем? — грустно спросил я, встретив её однажды во дворе в форменном платье.
— Скорее на свои ноги надо становиться, — вздохнув совсем по-взрослому, сказала Алёна. — Отец с матерью всю жизнь нас, шестерых, кормили. Тебе этого не понять — ты же один был ребёнок в семье.
За ней начали ухаживать взрослые парни, и я, встречая её иногда на Преображенке под руку с каким-нибудь верзилой, долго и горько смотрел ей вслед, вспоминая, как мы, сидя за партой в квартире Сигалаевых, вместе решали задачки по арифметике, писали изложение, рисовали…
Алёна всё больше и больше растворялась передо мной в неясном и непонятном мне тумане своей новой жизни. Иногда она даже не здоровалась со мной, когда мы встречались на улице. Невидящим взглядом смотрела она на меня и сквозь меня, и красивые глаза её заволакивало выражение полной отчуждённости и бесконечно далёких от меня забот и тревог.
И Алёна перестала мне нравиться. Я уже не находил её настолько красивой, какой она казалась мне раньше, хотя фигура её и лицо сделались такими, что ни один молодой мужчина не мог пройти мимо неё, не оглянувшись. Но это была красота не для меня, а для других. Это была уже взрослая красота, которой надо было служить и для которой надо было чем-то жертвовать.