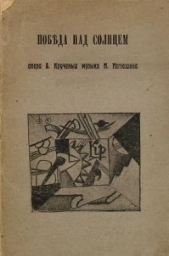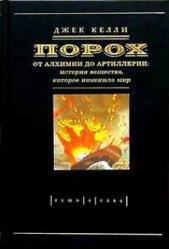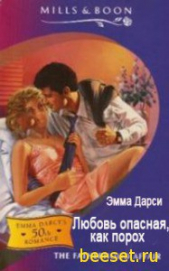Горелый Порох

Горелый Порох читать книгу онлайн
В книгу вошли две повести и рассказ нашего земляка писателя Петра Сальникова. По разному складывается судьба главных героев этих произведений. Денис Донцов (повесть «Горелый порох») сражается за Родину во время Великой Отечественной войны и попадает в лагерь для военнопленных, тезки-одногодки Николай Вешний и Николай Зимний уходят на фронт из одного села, крестьянин Авдей, вырастивший внука Веньку и не подозревает, что очень скоро его воспитанник окажется на чужбине…
Все они опалены войной и всем им предстоят нелегкие испытания. Автор делает попытку переосмыслить прошлое и рисует эпическую картину русской жизни.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
И близкие — в том числе. Вспомнилось. Жил когда-то в Лядове и третий Зябрев, и тоже Николай. Но того, по теперешнему времени, кроме близкой родни, никто и не вспоминает. В тридцать седьмом году он выучился на танкового командира, а в тридцать девятом, в халхингольской схватке с японцами сгорел в закованной броне, и останки его теперь покоятся в гобийских песках чужестранного местечка Хамар-Даба. У той далекой братской могилы в честь и память павших стоит на бетонной глыбе непокоренный танк. А другая памятная драгоценность о Николае хранится в Лядове, родной тульской деревеньке, в избе Антона Шумскова. Это — присланный командованием орден Красной Звезды, которым был награжден зять Антона — Николай Зябрев. Антон собственноручно привинтил «Звезду» к уголку кленовой рамочки, под стеклом которой помещалась портретная карточка командира-танкиста, и отдал на хранение свахе, матери Николая. В дни оккупации старуха неожиданно померла, дочь Антона вернулась под отцовский кров, а с ней и портрет с орденом.
Вот теперь-то и вспомнилась Антону зятева награда. И тут же горделиво подумалось ему: договорись он с Калининым и спросив позволения на то, самолично прикрепил бы этот боевой орден к рубахе того Николая — из других Зябревых, кто пойдет из них на фронт. Прикрепил бы загодя, допреж подвига или смерти солдата.
Раздобрела душа от этих несуразных мыслей, а легче не стало — орденом не отделаешься от войны, ей нужны солдаты. Антон вновь заколебался: кому вручать повестку — Николаю Зимнему, или Николаю Вешнему? Чем один из них хуже-лучше другого? Жизнь у них одинаковой доли и судьбы… «А так ли?» — вдруг подвернулся вопрос и встал как-то поперек всех раздумий Антона. И память, эта исхудалая сторожиха всего прожитого, тут же заработала обратным ходом и сорвавшимся колесом покатила на задворки времени.
3
… В девятьсот пятом, в том суровом, порубежном в истории России, году, на верхнем конце захолустной деревеньки Лядово, в курной осиновой избенке, майской порой, в Николин-день, в первый день выгона коней в ночное, седьмым по счету, а значит — счастливым, народился мальчик. Поп Уровского прихода, в церковь которого привезли крестить ребенка, как полагается по святцам, назвал новорожденного Николаем. В том же году, но уже в студеном декабре, на нижнем конце Лядова, в каменном доме, и тоже седьмым, в день Николы-зимнего явился на свет другой мальчик. Тот же поп нарек его также Николаем, не приняв во внимание ни однофамилие Зябревых, ни одноименность отцов Иванов. Никакого дела до случившегося совпадения не было и всей деревне: авось, кто-либо из них помрет. Церковный звонарь Васюта, мастак на прозвища, окрестил мальцов на свой лад: одного Николая обозвал Вешком, второго — Зимком. И с тех пор все лядовцы так и звали их с самого сызмальства.
Народившиеся тезки, кому на радость, а кому на горе, росли здоровыми и совсем недурными по нраву и телесному складу ребятами. Такими росли они вопреки голодухам и порухам, войнам и революциям, какие переживала тогдашняя Россия. Задурили оба Николая лишь тогда, когда, бросив школу с ее заманчивой грамотой, заженихались. И не сами они в том виноваты, как заметила деревня, а взбудоражила парней Клавка Ляпунова. Выросла она в добрую девку и заневестилась, да так незаметно, будто у всех за глазами, — никто и не видел как. На деревенских вечорках и праздничных посиделках, если кто и видел ее, то в подростковой ватажке, что увивается обычно под окнами избы, где гуляют. А тут — дело было на Покров-день — Клава явилась уже на правах взрослых девиц. Гуляли в тот раз в просторной избе Любы-повитухи, хитрющей бабы, умевшей взять свое за погулянку так же лихо, как и за принятого ребеночка. Еще она пробавлялась сводничеством. За тайную полушку она умела, как говорили в насмешку, сосватать и козла с телушкой. Люба жила бобылкой. Мужа-пьяницу согнала со двора, не нажив еще и детей. Тот запил сдуру еще хлеще, погрозился убить ее, но не посмел. Уехал в Сибирь, как нахвастался он приятелям, за золотом и там сгинул…
Так вот, явилась Клава. Приспела пора, осмелела и явилась, как первый покровный снежок на голову. Она без малой робости переступила порог хозяйки Любы и низко-низко поклонилась:
— Мир вам, добрые люди!
— Милости просим, — не сразу и вразнобой ответили девичьи голоса. Ребята смолчали.
— Примите в игрища, любезные, не корите меня и не гоните, — во второй раз поклонилась Клава, степенно прошлась к свободному месту на лавке и села.
Не привыкшие к такому почтению, девушки и парни поначалу как-то оторопели, перестали щелкать семечки и украдчиво уставились на гостью. Одета она была в легкую баранью полушубку, хорошо продубленую, по бортам и краям украшенную полосками синего сукнеца с искрящим бисером под снежок. На ладных ногах фасонисто сидели в меру высокие сапожки с лисьей оторочкой и в латунных бляхах. На плечах, накинутый с некоторой небрежностью, красовался цветастый полушалок с шелковой бахромой по краям.
Первым нашелся, что надо было сделать в этот момент, Николай Зябрев, по прозвищу Вешок. Разметая лаптями подсолнечную шелуху, наплеванную на пол, он вспуганным коршуном метнулся из своего угла, где обычно молчаливо отсиживался на вечерках, на середину избы. В отцовском кожухе, с подпаленными полами, Вешок всем показался в этот миг великаном, подстать своему отцу, мастеру большой руки кузнечного и шорного дела. Николай, вскинув руку к потолку, лихо крутанул колесико висячей лампы-десятилинейки, и фитилек возгорелся гуще прежнего. Обливная абажурная тарелка над стеклом тут же разбросала горячий свет по лицам и одежкам парней и девок. Разбросала вроде бы на всех поровну и лишь чуть поярче, как всем показалось, кинула полоску на Клаву. Озарилась та ярким бликом, и все, будто только теперь, узнали в ней любимую внучку лесника Разумея Ляпунова, по деревенской мерке — зажиточного и прижимистого старика. Это он ее выходил такой красавицей на лесной воле и обрядил всем на зависть боярышней из несказанной сказки. Узнали Клаву и всяк по-своему, себе же вопреки, вздохнул: авось не королева еще…
Девки вновь защелкали подсолнухами, ребята полезли в карманы за табаком и папиросами — у кого что было. Прежнего спокойствия, однако, не наступило. Николай Вешний во второй раз тронул колесико лампы и еще наддал свету. Но на это уже никто не обратил внимания, кроме хозяйки Любы-повитухи. Заметив прибавку света и приняв это за ребячье баловство, она вышла из спальни и пригрозила:
— За карасин надбавлю! Не лишкуйте попусту…
Тут же возник другой Зябрев — Николай Зимний. Спрыгнув, ровно петух с насеста, с подоконника итальянского окна, нагловатой походкой он приблизился к хозяйке, порылся в кармане поддевки и, нашарив полтинник, подбросил серебро к потолку перед самым носом повитухи:
— Мы не купцы, на расчет не жадны, тетка Любаха. Держи надбавку! — Зимок, притянув к себе руку хозяйки, лихо, чтоб видели и слышали все, шмякнул по ее мясистой ладони полтинником: — Пусть горит, как людям желается!
Выходка Николая Зимнего показалась затейной, и все одобрительно захохотали. Не понравилась эта выходка лишь другому Николаю — Вешку. Он тонко почувствовал, как быстро внимание присутствующих на вечеринке перешло теперь к его тезке. Украдкой глянул на Клаву и, раздосадованный, молчком ушел в свой угол, сел на перевернутую квашню и стал закуривать.
Пока ждали гармониста Митю-кривого, ни песен ни забав не затевали. Случилась никому ненужная тишина. Лишь в углах горницы витал таинственный перешепот влюбленных парочек да сухо постреливали на горячих зубах семечки. Под матицей нутряным пылом пыхтела во все свои десять свечей лампа.
Вешок сквозь густель табачного дыма украдчиво зырился на Клаву, как на призрак. То ли от крепкой цигарки, то ли от чего-то еще по всему телу колюче загуляла неведомая доселе дрожь. А в голове кружливой спиралькой стали нанизываться одна на другую необыкновенные думы и желания. Они то возносили Вешка в загадочную высь, то опять усаживали на хлебную квашню тетки Любахи. Изредка он взглядывал и на своего тезку, на Зимка. Тот, прижавшись спиной к дощатой перегородке, стоял столбом напротив Клавы и в открытую, как повиделось Вешку, палил в нее сизым огнем из своих глаз, как из двуствольного дробовика.