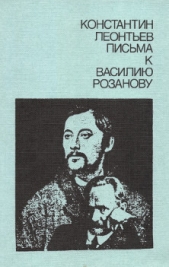Избранные письма. 1854-1891

Избранные письма. 1854-1891 читать книгу онлайн
К.Н. Леонтьев (1831–1891) — поэт-философ и более лирик, чем философ. Тщетно требовать от него бестрепетного объективизма. Все, что он создал ценного, теснейшим образом связано с тем, что было — в его личных чувствах, в его судьбе, как факт его действительной жизни. Этим жизнь Леонтьева и его письма и ценны нам. Публикуемые в данном издании письма и есть «авторское» повествование о жизни.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Так Вы и делали в былые времена — тогда ли, когда я, назначенный консулом в Тульчу, носил сюртучок цвета Бисмарк, парижский красный шарф, Вами же купленный, и белые триковые панталоны (помните?) и «обмывался» каждый день «vinaigre de toilette» [589]; тогда ли, когда я, уже полуразрушенный, приехал с Афона в Царьград и когда во мне происходила такая жестокая борьба светских вкусов и развратных страстей с искренностью и глубиной нового в то время религиозного чувства… Кто знал меня таким? Кто понимал? Кто жалел? Кто радовался со мной и огорчался за меня? Кто, сердясь и ропща иногда на меня за всю эту бурю, не переставал меня любить?.. Вы и только Вы одни. Только Вы (и бедная Маша еще) с полуслова, с полунамека понимали меня тогда и поняли бы и теперь с полуслова. Вам обоим (с Машей) ясно, что мне особенно тяжело и что мне особенно приятно. Маша помнит меня с 27 лет, Вы с 30 почти. Но Маша стала давно уже невозможна в отношениях со мной, она знает отлично, что мне больно и что мне приятно, и не в силах уже не противоречить мне чрезвычайно тонко и умно почти во всем, что мне дорого теперь. Я заметил, вообразите, при краткой последней встрече в Оптиной, что она даже о богословии Вл. С. Соловьева не может со мной спокойно рассуждать, а все выходит из себя. Она, конечно, несчастнее меня, ибо она всегда была первым нападающим в распрях и не может в минуты просветления совести забывать фактов; но как бы то ни было, наше общение сделалось невозможным потому, что даже и при двух очень кратких последних свиданиях наших (в Москве в 86 году, когда я умирал весною, и в том же году летом в Оптиной, куда я понял и она нарочно приехала, чтобы видеть меня) прежде нее, что эти встречи и свидания даже и на оставляют только одну тягость на сердце, я догадался, наконец, что эти внешние примирения в виде свидании и будто бы приятных разговоров о том о сем, после того глубокого единомыслия и тождества вкусов, которые нас столько лет с ней соединяли, — большая ошибка, натяжка и ложь; это ненужное, кисло-сладкое какое-то притворство, что они, эти лжесмиренные елейности, для внутреннего, духовного, христианского прощения обид очень вредны. После того, что уже было между нами и в такие зрелые годы, христианское чувство требует одного — забвения и, если нужно и можно, вещественной помощи, вообще какого-нибудь чисто практического добра, без разговоров и свиданий. Понявши это, я сказал это старцу, и он согласился со мной. Теперь она без места пока, гостит по знакомым и, как слышно, довольно покойная (вдалеке от меня она всегда покойна и даже полнеет. Это мне говорил отец Амвросий еще и тогда, когда старая привязанность еще не позволяла мне совсем с нею порвать). По приказанию о. Амвросия я, пока она без должности, посылаю ей каждый месяц 15 р(ублей) с(еребром) на карманные деньги, да еще даю от время до времени половину с продажи сборника «Восток, Россия и славянство» (он понемногу не перестает продаваться); и мне по приказанию духовника давать стало гораздо легче, чем от себя, ибо в этой форме я почти не чувствую, кому я даю. Сердце даже и добрым чувством не шевелится.
А мой идеал по отношению к ней — ничего не чувствовать. Слава Богу, я даже не сам и посылаю, а отдаю все Катерине Васильевне [590] (Вы ее ведь помните?), которая тут живет постриженная (тайным постригом) близко от моей дачи, рядом, и часто у нас бывает. Ей отдаю и отчета не спрашиваю. Отлично! Это помощь; что касается до встреч, то прошлого года летом она приезжала сюда дней на десять говеть и видаться со старцем. Жила у Катерины Васильевны в двух шагах от меня и вследствие дружеских отношений этой последней всячески избегала встречать меня. Однако нечаянно раз, встретившись в садике у Катерины Васильевны, я молча подал ей руку (потому что мы были не одни). Она ушла в дом, а я к себе, вполне счастливый, что так легко отделался и что не было и тени волнения в душе. Отец Амвросий говорит: «Однако должно быть сильно эта женщина оскорбила вас! И в Турции, и где только вы ни были, ни против кого у вас нет такого памятозлобия, как против нее. Конечно, видеться не нужно. А так как сказано: «любите и врагов», то надо деньгами помогать ей и молиться о смягчении сердца!»
Таким образом, мой житейский опыт и моя психологическая тонкость совпали с духовным взглядом отца Амвросия. Она другое дело. При ее привязанности, страстности и сварливости она готова была бы снова видеться, снова беседовать, жить даже вместе и снова беспрестанно досаждать, укорять, намекать и т. д.
Раза два-три она сама сознавалась, что чувствует себя с этой стороны неисправимой. Итак, из двух людей, меня в самом деле коротко знавших, Вы остаетесь теперь для меня только одним, с которым я могу говорить так, как я мог прежде говорить с двумя.
Мои московские юноши [591] узнали меня уже старым, как я сказал. Для них это, вероятно, полезнее (или, вернее сказать, гораздо безвреднее), но здесь речь не о моем на них влиянии, но о том, что я не могу (и не хочу даже) быть с ними таким откровенным, каким был с Вами и с Машей. Говорится — «noblesse oblige» [592], можно сказать и многое другое в том же роде: «experience oblige, influence oblige, religion oblige, position oblige, reputation oblige». [593]
Старая же дружба тоже обязывает, только совсем в других отношениях: она обязывает к верности, а не к сдержанности и осторожности в излияниях. Вы от моих излияний (даже и о столь грешном прошедшем моем) не испортитесь и моего доверия никаким бестактным словом не оскорбите…
Вот почему я считаю, что это за грехи мои Бог лишил меня наслаждения видеть Вас у себя в доме и говорить с Вами этим постом. Вы тут ничем не виноваты, и уж одно искреннее желание Ваше побывать здесь у меня — мне очень утешительно и лестно. Хочу этим длинным письмом возместить хоть сколько-нибудь невозможность близкого свидания. Потому отлагаю продолжение до понедельника, до 30-го. Завтра (28) надо в Козельск, а 29-го обедня и панихида по матери (Феодосии); писать же я люблю только с утра. А вечером вообще «гуляю» во всех смыслах этого слова, за исключением крайнего пьянства, а водку пью вечером понемногу. (…)
Маленький парантез [594] для Вашего религиозного просвещения о важности старчества даже и для самих по уму и по нраву самобытных, но верующих мирян. Если бы в нашей жизни вопросы о действии душеполезном и греховном были так ясны, как следующие: «обокрасть благодетеля или помочь сироте?», «впасть в кровосмешение с тещей или не впасть?», «выдумать на Губастова небывалую глупость в виде спасибо за то, что Вы мои долги платили?», так для такого выбора, я полагаю, не только старчества, но даже, пожалуй, и христианства не нужно… Но есть множество случаев в жизни христианина, где и страсти молчат, и намерения добрые — а между тем не можешь решить, которое из двух хороших дел перед судом Всевышнего сочтется за лучшее. Это вздор, что совесть наша тут сама может решить… Совесть глубоко и неразрывно связана с самомнением, тонкою моральною гордостью, с природными вкусами и т. д… (…)
Варя очень похудела и порядочно через это подурнела, так как черты ее, Вы знаете, не особенно красивы. Это происходит оттого, что она вторую дочь слишком долго кормит, нарочно, чтобы отсрочить как можно дольше новую беременность. Это нередко предохраняет. Я этому, признаюсь, сочувствую. И с двумя девочками столько возни, даже и в отдельной от дома детской, что кроме Агафьи (матери Вариной) пришлось еще 14-летнюю племянницу Варину сюда взять за 1 руб(ль) в месяц. А сама Варя для нас в доме больше всех нужна. Лизавета Павловна, слава Богу, очень ее любит. Лизавета Павловна с тех пор, как 2 года тому назад вдруг начала ужасно толстеть, стала покойнее и рассудительнее. Но странное дело, от 71–72 года, как только она пожила в Одессе с матерью и сестрою своими, уже не возвратилась к ней ни при каких переменах, ни внешних, ни внутренних, ее первоначальная щеголеватость и та безукоризненная опрятность, которая даже щепетильную мать мою удовлетворяла когда-то до того, что она ее с этой стороны предпочитала и дочерям своим, и другим невесткам, из которых одна, была княжна, а две другие — «генеральские дочери». Она их всех троих терпеть не могла, презирала и считала mauvais genre [595], а Лизу не только любила, но даже чуть не гордилась ею и расхваливала ее своим знакомым: Оболенским, Мещерским, Карамзиным и т. д. Вы Лизу такой уже и не знали вовсе. Я помню, Маша в 60-х годах, когда ей было 15 (16–17) лет, и она Лизу еще очень любила, часто, целуя ее, восклицала: «Господи! Как от нее хорошо пахнет! Даже и в комнате у нее какой-то приятный воздух!» И это было справедливо. Каким образом это все безвозвратно исчезло — не понимаю.