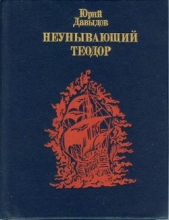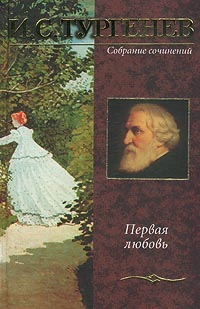Соломенная Сторожка (Две связки писем)

Соломенная Сторожка (Две связки писем) читать книгу онлайн
Юрий Давыдов известен художественными исследованиями драматических страниц истории борьбы с самодержавием и, в особенности, тех ситуаций, где остро встают вопросы нравственные, этические. Его произведения основаны на документальных материалах, в значительной степени почерпнутых из отечественных архивов.
В настоящем издании представлен полный текст романа, посвященного в основном выдающемуся русскому революционеру Герману Лопатину.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
– Вот ты возьми прежний суд, в раньшее время который, – вдумчиво говорит умелец, склонив голову набок и любуясь новорожденным трефовым валетом. – Да, в раньшее-то… Это вот приволокут в квартал. Квартальный там али помощник, комиссар, тут и свидетели, коль нашлись, а нет, так и не надо. Городовой доложит: так, мол, и так. Писарь знай свое: чирк, чирк. Ну, тебе и приговор: две, три плюхи с присказкой: «Впредь, дурак, держи ухо востро!» Тут все захохочут, и, значит, расходись кто куда. А городовому ты еще и магарыч. Ну, если хуже, то розог десяток али два. Тогда этот же городовой ведет в часть. А там кажинный день экзекутор, который от полудня до четырех приголубливает. Получил свое, распишись и проваливай. Весь оборот в два, три часа, и шабаш. А теперь? То-то душу-то мотают… Ладно. Ну, вот еще. Мелкая, скажем, кража – карман. Тот же городовой – судья. Сейчас он тебе мелом на спине круг, метлу в руки – валяй, мети мостовую. Метешь. А народ, а мальчишки-то – в смех. Особливо франтик какой попал али фря… Не-ет, нынче не то, нынче, брат, канительно. А тогда отдерут, и квиты. Теперь возьми преступление стоящее. Учинят следствие, опять же из квартальных следователь. У квартального, ежели дока, середь нашего брата есть такой шустренький, ему поблажки, на него сквозь пальцы, а он, значит, услуга за услугу, ну, этот и наведет на след, прямо укажет. А ежли отрежет: «Знать не знаю!» – то, значит, не знает али у самого рыльце в пушку. Ладно. Теперича – допрос. Попал к доке, он сейчас по сусалам, по сусалам. Иль мигнет служителю, тот все исполнит в лучшем виде. Ну, думаешь, это хорошо, это дело пошло правильно. А совсем другое, коли попал к истинному мучителю, это который все с улыбочками, да с коленцами, да с подходцами, шуточками-прибауточками. Знай наперед: селедкой велит кормить и пить ни-ни, клопам предоставит, глаз не сомкнешь. Как есть истинный мучитель. А который по мордасам – тот правильный, этому, брат, надо как на духу, от такого и свидетелю достанется, коли приврет… Ладно. Теперь скажу, как от мучителя избавиться. Тут ты ему прямо лепи, не бойсь: так, мол, и так, а я на это самое воровское дело с вашего-де согласия решился, потому как вы, значит, в доле. А такое, братцы, бывало, есть и будет… Хорошо. Лепишь ему, он на дыбы, а ты – свое. Его, глядишь, и отставят, сам же и попросит… Чего, чего? Не поверят? Ха! Сопля зеленая, не расцвел еще, только зацветаешь, а туда же – «не по-верят»! Да как же не поверят, ежли такое самое и приключалось! Вот возьмите – жил я на Москве. Есть там Кузнецкий мост. Знаешь? Ну вот, не знаешь. А он есть, улица такая. А был там, может, и поныне торгует, был там меховой магазин Мичинера. Вот его раз и помыли дочиста, тыщ на сто. Хорошо. Перво-наперво кличут Карпушку. Из наших был, но при ихней службе. Спрашивают: где? А Карпушка мнется. Ему: ты чего? говори! Нет, мнется. «Знаю, ваше благородие, да сказать не смею». Ему опять: говори, сукин сын! «Да ить, ваше благородие, они-то, меха-то, все до единого у господина пристава». Эй, кричат, эй, Карпушка, ври, да не завирайся! «Как перед истинным богом, ваше благородие! Да рази я б посмел?!» Доложили господину полицмейстеру, тот – господину оберполицмейстеру, тот велит с обыском. И что думаешь? Всё, как есть, находят. На мехах клейма от Мичинера… Не-ет, постой, ты имей терпение, это еще не все, потому как при обыске-то у господина пристава находят еще штуку – телец златой! Понял? Весь из золота литого, а глаза бриллиантовые. Вот крест! Тут уж не сто тыщ, не меха. А как получилось? Ты слушай. Приезжают в Москву двое, оба иностранные, один вроде немца али англичана, а может, и францужанин, но ведь так-то, на вид, вроде бы нас с тобою. А другой, братцы, черный, как в саже, черный-пречерный. Царь какой-то африканский, индейский, не знаю… Ладно, приехали. Сидят в гостинице, чай пьют с баранками. На столе самовар, брульоткой называется, господский. Ну, попили. Которому вроде нас с тобой спать охота, а головешкой которой, тому, вишь, погулять. Взял и пошел. А белый-то, не будь плох, весь этот царский-то багаж сгреб и – нету, пропал. Черный вертается: ахти, батюшки! Понятно, караул кричит. Послали за полицией. Приходят. Господин пристав во главе угла. Африканский ли, индейский – лопочет по-своему, разбери-пойми. А на шее, под рубахой, на цепочке – телец златой, бриллианты горят, это у него вроде бога ихнего, от сглазу. А пристав-то и углядел, ажио мурашки по спине: господи, царица небесная, да тут на всю жизнь детям-правнукам. Да-а, за такое кто б не решился! И что ж думаешь? Берет он этого царя индейского за шиворот и велит в каталажку. Никто ничего не понимает, царь этот тоже ни бельмеса. Одно слово: вор и бродяга. Его в острог, его по Владимирке – пошла Настя по напастям… Этого-то тельца и нашли. А где он, черный-то, врать не буду. Может, ты его где-нибудь туточки, в Сибирях, встренешь…
Вся эта публика, завидев знаменитого барина-беглеца, приглашала наперебой:
– Григорий Лександрыч, пожалуй к нам, коли не брезгуешь.
Он поправлял: я-де не тем именем крещен, не Григорий я. Ему терпеливо объясняли:
– Германы – это из христопродавцев. А ты – Григорий, Григорий Лександрыч, вот так.
Общее расположение к Лопатину приняло оттенок почти богомольный с того дня, как взялся он за всяческого рода прошения. Он умилял клиентуру не только ладом и складом, а и чистотою письменной отделки. Адвокат-доброволец особое предпочтение отдавал двум острожникам, и хоть они не просили юридической помощи, но подолгу оставались в его камере.
Мокееву Степану было около тридцати. Чернявый, сухой, горячий, быстрый, он обладал железной и цепкой физической хваткой, которую словно бы производили не мускулы, а нервы. Мокеев не принадлежал ни к пришлым этапникам, ни к бегунам-«рысакам». Забайкальский уроженец, он робил на прииске мильонщика Базанова. В острог пригнали Степана день в день с Лопатиным. Числилось за Степаном покушение на жизнь скупщика золота. Крутая перемена судьбы ошеломила Мокеева. У него была потребность в слушателе, хотелось избыть свою ошеломленность. А вместе с тем он что-то судорожно нащупывал, пытаясь вытащить на свет божий злодейскую причину этой перемены, чувствуя, что кроется она не в одной наглости витимского скупщика.
Лопатин сострадал Мокееву. Но состраданием не все исчерпывалось. Этот Степан Мокеев был первым рабочим, не мужиком, не ремесленником, а именно первым промышленным рабочим, с которым можно было толковать не мимоходом, не наскоро. И как раз о том, о чем можно было толковать лишь здесь, в Сибири.
Еще в ставропольской ссылке припал Лопатин к Марксовой критике политической экономии. И очень развеселился, прочитав, что даже любовь не сделала стольких людей дураками, как мудрствования по поводу сущности денег. Он не сделался дураком от любви к вдове полковника фон Неймана. И не одурел от мудрствования по поводу денег. Первым он был обязан самому себе. Вторым – доктору Марксу.
У врат науки Маркс выставил строки Данте, предпосланные путешествию в ад: «Здесь нужно, чтоб душа была тверда; здесь страх не должен подавать совета». Как тяжко ворочались эти фунты кофе, аршины холста, этот анализ товара, меновая стоимость и рыночная цена. А метаморфозы благородных металлов? Извлеченные из мира подземного, они излучают самородный свет, озаряющий мир земной. Золото и серебро по своей природе не деньги, но деньги по своей природе – золото и серебро. Они – продукт природы, и они – продукт общественного процесса.
И вот он, прямой добытчик самородного света Степан Мокеев. И уж Герман Лопатин постарается, чтобы этот прозрел. Но и Лопатину необходим не книжный «агент производства», а этот чернявый, сухой, горячий сибиряк с приисков мильонщика Базанова.
В его потребности были не только «химические» сродство и связь, которые Лопатин ощущал и в степных ставропольских станицах, и в приангарских деревнях, а была еще и взаимная зависимость по душе и судьбе: и этот Степан Мокеев, и он, Лопатин, шли одной дорогой, где «страх не должен подавать совета», дорогой в царство, не обозначенное на географической карте, но уже возвещенное знаменем Коммуны на парижской ратуше.