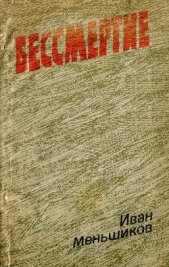Солона ты, земля!
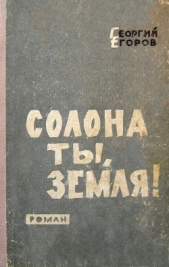
Солона ты, земля! читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Поезжайте, а я на минутку зайду в штаб, — распорядился он. — Потом догоню.
Конники тронулись. У коновязи остались Филька, Винокуров и цыганского пошиба Чернышев.
— Мы с комиссаром приедем, — крикнул вдогонку Чайникову Винокуров.
Тот ничего не ответил, повел партизан напрямик, к грамотинской дороге по узкому переулку.
Комиссар вышел через полчаса, молча вскочил в седло и пришпорил лошадь. Чайникова догнали на развилке дорог. Убористой рысью обогнули колонну и пристроились в ее голове.
До Ребрихи комиссар молчал. Методично покачиваясь в седле, он изредка посматривал по сторонам, о чем-то упорно думал. Все это замечал Филька.
А комиссар думал о семье, о доме — о том, о чем он редко думал в последние годы. Вчера только он вернулся из Ильинки — за полтора года первый раз побывал дома. А сейчас на досуге вспоминал, как три дня назад он подъехал к Ильинке. Глянул с пригорка на заросшие травой улицы, на пестрые заплаты крыш родного села, и у него, закаленного большевика, прошедшего с 1905 года многие тюрьмы и каторгу, к горлу подступил комок, перехватило дыхание. В село спустился шагом и, сдерживая волнение, направился вдоль приземистых избушек.
На задворках самой крайней улицы стояла покрытая дерном родная избушка. Белоножкин подъехал к ней с бьющимся сердцем. Ограды у избушки не было. На заросшем бурьяном пустыре между завалившимся хлевом и избой играли ребятишки. По рыжеватым косичкам и веснушчатому лицу Иван Федорович узнал старшую дочь, десятилетнюю Машу. Не сдержав сильного волнения, он еще издали закричал:
— Машенька! Маша!..
Девочка подняла над бурьяном голову, посмотрела на незнакомого всадника, что-то сказала игравшим с ней мальчикам и юркнула с ними в дикую заросль полыни. «Напуганы, людей боятся», — догадался он и, спрыгнув с коня, позвал снова:
— Машутка! Федя! Это я приехал. Где мать?
Из полыни показались любопытные напуганные глазенки.
— Выходите, не бойтесь. Не узнали меня?
В полыни о чем-то шептались, потом сразу высыпали оттуда четверо ребят.
— Тятя, тятя приехал!.. — бежали к нему голоногие и голопузые ребятишки один другого меньше. Самому младшему, Кольке, не больше четырех лет. Он едва ли помнил отца, бывшего дома полтора года назад. Маша, смышленая, взвитая девочка, конечно, узнала его.
— Тятя приехал, — звенела она на всю улицу. За ней катились Федька, Мишка и Колька.
Иван Федорович присел на корточки, распластав по земле широкие полы шинели, и сразу в охапку захватил всех ребятишек. Слезная пелена заволокла ему глаза, Поэтому он не видел, как, опомнившись, вдруг испуганно уставился на него, незнакомого дядю, меньшой, Колька, как, не веря своим глазам, рассматривал его Мишка. Белоножкин молчал, стараясь проглотить застрявший в горле комок. Он не мог произнести ни слова — только прижимал детские взлохмаченные головенки к своей груди.
— Ваня… — тихо послышалось сзади.
Иван Федорович стремительно обернулся. На пороге избы, заломив руки, стояла жена.
— Ваня! Жив!.. — кинулась она к нему. Иван Федорович одной рукой придерживал прижавшихся к нему ребятишек, другой обнял заплакавшую жену. — Живой? И не думала увидеть… Сколько слез пролила… Ведь ни слуху ни духу.
Из избы вышла, опираясь на кочергу, древняя старуха. Прикрыв ладонью глаза, она долго всматривалась в высокого здорового мужчину.
— Ванюшка, ты, что ль? Признать не могу.
— Мама!
Иван Федорович отпустил ребятишек, жену, торопливо сделал несколько шагов, обнял сгорбленную мать, поцеловал.
— Постарела ты, мама.
— Оно и ты не расцвел, виски-то заиндевели.
Все вошли в избу. Иван Федорович скинул шинель, — бросил на застланную полосатой дерюгой кровать деревянную кобуру с — маузером, сел. Ребятишки облепили его колени. Он гладил их лохматые выцветшие на солнце головы, смотрел на счастливо улыбавшуюся жену. Та стояла посреди избы, сложив на животе руки. Молчали.
— Ой, что же это я!.. — всплеснула руками Евдокия. — Надо же что-нибудь приготовить. — Она кинулась к печи, потом выбежала в сени, вернулась, потом снова убежала на улицу.
Иван Федорович оглядел избу. С последнего его приезда она почти не изменилась, только еще больше опустела. На том же месте стоял все тот же и так же старательно выскобленный стол, за ним вдоль стен лавки, в переднем углу под потолком сплошь засиженные мухами образа, сиротливо жалась в углу избы русская печь с обшарпанными боками — видимо, по-прежнему она была постоянным прибежищем ребятишек в течение всей зимы. Рассматривая родную избу, Иван Федорович не переставал машинально гладить ребячьи головки, а у самого назойливо вертелась мысль: когда же люди будут жить по-человечески? Когда он сможет ежедневно вот так, как сейчас, сидеть со своими ребятишками, играть с ними вечерами, читать им интересные книжки?
Сколько он просидел так, задумавшись, не заметил. Очнулся, когда в сени, запыхавшись, вошла жена. Она что-то тяжелое положила на земляной пол, передохнула. Стала шептаться со свекровью.
— Бежала от Марфы… Фрол Сысоич остановил… Такой ласковый, улыбался. Говорит, слышал, Иван Федорович приехал? Приехал, говорю. Поди, и встретить нечем? Зайди, говорит, я пудик муки насыплю. И вот дал. — Жена шепотом рассказывала свекрови и продолжала что-то делать в сенях — звякала ведрами, посудой.
Белоножкин слушал разговор, мрачнел. «Опять по- старому, опять богатеи верхом сидят на шее. Улыбался!.. Он чует, к чему дело идет. Надо завтра сходить к сельскому комиссару, навести порядок».
Жена забежала в избу, улыбнулась счастливо, по- молодому, как давно уже не улыбалась.
— Ты голодный, должно. Сейчас я печь затоплю, картошки сварю, лепешек испеку, а то, оказывается, у нас хлеба-то нет, вчера забыла испечь.
Белоножкин ласково посмотрел на жену: «Забыла испечь… мученица ты моя! Наверное, уже не помнишь, как и хлеб-то пахнет». Он ссадил с коленей ребятишек, подошел к жене, обнял. Та поняла, что он разгадал ее хитрость, заплакала, прижалась к его широкой груди.
— Ничего, Дусенька, скоро и мы заживем хорошо. Потерпи еще… немного осталось ждать.
— Да я ничего, что ты… Просто соскучилась.
— Ох, а я забыл: гостинцы-то привез — и лежат! — воскликнул Белоножкин. — А ну, ребята, налетай! — Он закружился по избе, схватил за ручонки меньшого Кольку.
— Пошли к коню, там в переметных сумах гостинцы лежат.
Обгоняя друг друга, ребятишки высыпали во двор. Кем-то заботливо привязанный конь с опущенными подпругами переминался, кося умный глаз на незнакомую дверь. Иван Федорович достал из кожаной сумки кулек с пряниками, подал старшей, Маше.
— Раздели всем.
Потом достал еще два свертка, пошел с ними в избу.
— Вот, Дуся, тебе на платье привез. А это маме платок. В Новониколаевске, когда уезжал сюда, забежал в лавку, купил. — Он смотрел на возившихся в углу ребятишек, деливших пряники, думал: «Пряники, обыкновенные ржаные пряники — и то великий праздник для них!..» На скулах задвигались желваки…
Ужинали всей семьей за столом, покрытым старой, сохраненной женой от девичьей поры скатертью. Посредине стояла большая обливная глиняная чашка с очищенной картошкой. Струился ароматный парок. Горкой лежали белые лепешки, в двух мисках желтело квашеное молоко, укропом разили малосольные огурцы. Убранство стола вершила бутылка самогонки, добытая по такому случаю взаймы у Марфы- самогонщицы…
Ночью жена, прижавшись к широкой, размеренно колыхавшейся груди Ивана Федоровича, шептала:
— Когда же, Ваня, будем жить как люди? Когда совсем-то придешь?
— Скоро, Дуся, скоро. Теперь уже скоро. Потерпи немного. К весне обязательно кончим войну, приеду домой, будем коммуну организовывать.
— Ох, скорее бы. Моченьки уж нет. Их ведь четверо, Маманя пятая. Закружилась.
— Потерпи, милая, потерпи. Совсем немного осталось.
— Я потерплю…
Вставая закуривать, Иван Федорович при свете горящей лучины долго смотрел на спящих вповалку ребятишек. У меньшого, Кольки, в ручонке зажат обмусоленный пряник. А мордашка такая счастливая! Подергиваются губы, и он во сне что-то пытается сказать. У восьмилетнего Федьки, Названного при рождении в честь деда, шевелится левая бровь, он хмурятся. Маша, отцова слабость, лежала ничком, уткнувшись вздернутым веснушчатым носом в рваный подклад поддевки, заменявшей подушку. Лицо ее было спокойное, немного усталое.