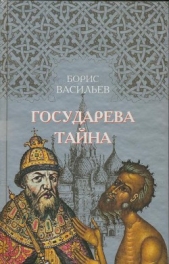Государева почта. Заутреня в Рапалло
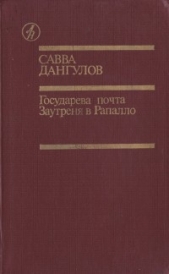
Государева почта. Заутреня в Рапалло читать книгу онлайн
В двух романах «Государева почта» и «Заутреня в Рапалло», составивших эту книгу, известный прозаик Савва Дангулов верен сквозной, ведущей теме своего творчества.
Он пишет о становлении советской дипломатии, о первых шагах, трудностях на ее пути и о значительных успехах на международной арене, о представителях ленинской миролюбивой политики Чичерине, Воровском, Красине, Литвинове.
С этими прекрасными интеллигентными людьми, истинными большевиками встретится читатель на страницах книги. И познакомится с героями, созданными авторским воображением, молодыми дипломатами Страны Советов.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Это вы, Воропаев?
— Я, Георгий Васильевич. Он пошел на меня.
— Почему так поздно?
Этот вопрос мог задать ему и я, но пощадил.
— Собираюсь на дачу…
— А не ветрено?
— Нет, хорошо — я люблю мартовский снег с сол! цем пополам.
— Ах да… сегодня же суббота, — засмеялся он: мысль о субботе застала его врасплох, ему стало весело. — Не в Петровский ли парк?
Это и для меня было неожиданно — откуда он знает про Петровский?
— В Петровский… — протянул я растерянно.
Он ткнул кулаком в бороду и точно свернул ее набок.
— Некогда в Петровском парке была и чичерин–ская дача!
— На вашей памяти, Георгий Васильевич?
— Пожалуй, и на моей.
Про дядю Бориса не было сказано ни слова, хотя нам было ясно: в Петровском парке жил он.
— А нет ли у вас желания побывать в Петровском, Георгий Васильевич?.. Как некогда?
Он рассмеялся — ему было приятно мое приглашение.
— Не воспротивлюсь…
Я торжествовал — наверно, это отразил мой голос;
— Седельный, сорок два — в любое время…
Он будто смешался — только сейчас понял, что разговор чреват обязательствами, которые могли и не входить в его планы. — Благодарю.
Мы сейчас стояли у двери моего кабинета.
— А видели вы новый труд о венской опере, который мне привез Боровский? — спросил я и открыл дверь; он вошел не без колебаний, обычно он входил ко мне охотнее, видно, у него было дело, оно его торопило. Я предложил сесть, но он отказался — осторожно вынес книгу к свету, переложил лист, другой.
— Вот и тут эта не новая ересь: «Моцарт — век восемнадцатый». Ну, что можно сказать?.. Голословно! Нельзя человека вот так намертво прикреплять, нет, не только ко дню и году — даже к веку! Есть люди, в лике которых как в зеркало глядит завтра… Смотри на человека и понимай будущее. Мне скажут: простите, но Моцарт все–таки родился в веке восемнадцатом. Да, в восемнадцатом, но это в данном случае не самое главное!..
Он сделал шаг к двери.
— А как насчет Петровского парка, Георгий Васильевич?
— Благодарю, благодарю…
По правде говоря, мне казалось его «благодарю» больше церемониальным. Я даже готов был обидеться: да воспринял ли он мой адрес? Если же воспринял, то почему не извлек свой блокнот со спичечный коробок, не чиркнул карандашом–спичечкой, а всего лишь вымолвил почтительно–покорно «благодарю» и ушел, как несколько минут назад, вминая подошвы штиблет в мрамор, который все еще казался податливым? Признаться, в своей обиде я не учел, что его память обладает качеством цейсовского чуда — в нужный момент заветный лучик, усиленный линзой, откладывается на матовой поверхности негатива.
Но прежде чем закончился этот день, я стал свидетелем разговора, который, как мне померещилось, мог иметь отношение к завтрашнему визиту Чичерина в Петровский парк.
Разговор произошел в большой комнате отдела печати, где разбиралась пресса. Наркоминдельских полиглотов, читающих на нескольких языках, сама судьба влекла в эту комнату — сегодня здесь пересеклись тропы Воровского и Красина, да и моя смятенная тропа.
Боровский (он даже не успел сесть — отставил палку и привалился плечом к книжному шкафу: после брюшного тифа, которым Боровский жестоко переболел, он ходит с палкой). Воропаич, ты чего сбрасываешь окуляры, когда читаешь газету, а не наоборот? (Он произносит все это, не отрывая глаз от. иста, произносит так, чтобы слышал Красин, — ему надо затравить иронический разговор.)
Красин (не отстраняя газету). Всему готов доверять Николай Андреевич, не доверяет глазам своим…
— Наоборот, именно глазам и доверяю, потому и сбрасываю стекла, — пытаюсь отбиться я.
Боровский. Однако хорош Воропаич! (Вполголоса, но так, чтобы слышал Красин.) Есть идея, друг Воропаич: да не увлекла бы тебя Италия — Геную не обещаю, а вот Рим подам как на тарелке…
Красин (оторвал глаза от газеты — разговор заинтересовал и его). Таким щедрым я Вацлава еще не видел — я бы согласился, а? (Это «а» было прямо адресовано мне.)
— Значит, Рим? — вопросил я и надел очки: очень хотелось увидеть в эту минуту Воровского. — А Геную?
Красин. Не пренебрег все–таки окулярами, Воропаич! (К Воровскому.) Он не доверяет не только себе, но и тебе, Вацлав!
Боровский. Нет, я готов повторить: подам Рим как на тарелке!
Но я был упрям, настаивая:
— А Геную?
Боровский (мне показалось, что он подмигнул Красину). А вот Геную не обещаю…
Занялся разговор и погас, а в памяти остался след зримый — ну, разумеется, ироничный Боровский мог заговорить об Италии ради словца красного, да похоже ли это было на него — он пошел дальше в этом разговоре, чем обычно позволяла его ирония. С тем я и отбыл в Петровский, обрекая себя на неведенье долгое — завтра воскресенье.
Суть человека — в его мыслях. Увидеть Чичерина значит прикоснуться к его разуму.
— Вот вам задача для раздумий, Николай Андреевич: что есть универсальность человеческого дарования? Да, в одном лице: живописец., автор бессмертных шедевров, и ученый, положивший начало заглавным страницам целых наук, крупный поэт и столь же крупный ученый… Говорят, что универсалы намертво прикреплены к заре человечества, время их безвозвратно ушло… Как утверждают, время их безвозвратно ушло по той причине, что сами науки так разветвились и обрели столь глобальные размеры, что для их постижения даже всей человеческой жизни недостает: если и удастся сделать нечто иное, то в сфере смежной. Неверно: Леонардо жил в шестнадцатом веке, а наш Бородин в девятнадцатом — несмотря на разницу в триста лет, никто не будет возражать, что в сути Бородина было и нечто Леонардово… К тому же наш Бородин явил себя в сфере отнюдь не смежной: где его «Князь Игорь» и где его химия? Это же не случайно, что человек науки стремится прикоснуться к живописи или музыке, а муж искусства пробует свои силы в точных науках. Смею утверждать: чем дальше твоя вторая профессия лежит от профессии первой, тем больше эта первая профессия выигрывает. Тут есть законы, в которые надо еще проникнуть. Я вижу, вы улыбаетесь, Николай Андреевич? Улыбаетесь не без иронии? Где, мол, у Чичерина кончается дипломатия и начинается Моцарт, не так ли? Подумали так, верно? Если пришла вам этакая шальная мысль, готов заверить: я говорю не о себе…
Я был у себя в Петровском, едва занялись сумерки, и вновь пришел на память разговор с Чичериным: а вдруг прикатит? Вот и Борис Николаевич, как я помню, любил сверканье пиротехнического огня. Его конные прогулки по аллеям Петровского парка воспринимались как зрелище, у которого была своя публика. А может, дело не в пиротехнике? Деловой разговор на синих снегах Петровского парка? Чем черт не шутит! Нет, теперь не легкое беспокойство, а нечто похожее на тревогу обуяло меня: в самом деле, чего ради ему пришло на ум ехать на чичеринское пепелище? Не мокрые луга Караула или скользкий камень питерской
Дворцовой набережной привлекли его, а многоветвистые аллеи старого московского парка, который чиче–ринским можно назвать весьма условно.
Я застал Машу за писанием этой ее византийской премудрости — чем более смутно состояние ее души, тем сильнее ее увлекают миниатюры. Я заметил: цельность ее характера сказывается и в том, что все ее увлечения обращены к Востоку. Наверно, миниатюры интересны и сами по себе, но для меня они тем интереснее, чем больше объясняют Машу.
А погода истинно подладилась под состояние ее души — наш старый сруб точно помещен в трубе Жуковского и всесильные струи сотрясают домишко: неистово скрипят половицы, сажа летит из поддувала, и пакля, вышибленная из пазов, носится в воздухе, точно паутина на прохладном солнце бабьего лета. Не ровен час закричишь: «Эй, вы там, хозяева больших сквозняков, повергшие все живое в дрожь, дайте солнцу объять землю!» Не ровен час возопишь, взывая к ветру, на я молчу, вместе с Машей склонившись над тусклым квадрантом ватмана. Кажется, что ветер, который обдувает наш старый дом, вздымает и Машины волосы, рассыпая их.