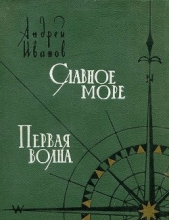Черные люди
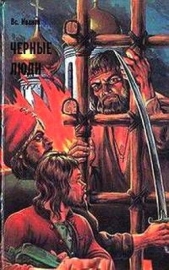
Черные люди читать книгу онлайн
В историческом повествовании «Черные люди» отражены события русской истории XVII века: военные и дипломатические стремления царя Алексея Михайловича создать сильное государство, распространить свою власть на новые территории; никонианская реформа русской церкви; движение раскольников; знаменитые Соляной и Медный бунты; восстание Степана Разина. В книге даны портреты протопопа Аввакума, боярыни Морозовой, патриарха Никона.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Или он, Поярков, из дьяков Сибирского приказа, не видел силы царя — как посылал государь первейших своих бояр на годы служить в дальние гиблые края? Как жаловал их за верность поместьями, как за воровство сымал головы с плеч! Эх ты, новгородский горлопан!
Так стояли они, оба русские люди, Поярков и Хабаров, друг против друга.
Сила земли — у Хабарова, сила власти — у Пояркова, и между ними змеями вились раздорные молнии: рвались они к одной и той же великой цели, сойдясь на единой тропе — государеве деле, столкнулись силой, без договора…
С вечера всю ночь напролет гуляли якутские стрельцы в слободе, словно в завоеванной земле, — гремели песни, лаяли собаки, визжали, ревели то тут, то там девки и бабы.
Сам Поярков пировал у Хабарова со своим подручным стрелецким пятидесятником Петровым Патрикеем Петровичем, рослым, молчаливым мужиком в красном кафтане, у которого на лице из сплошной серой бороды были видны лишь глаза да нос розовым яблочком. Стол заставлен был ествой, жбанами с медом, пивом, стеклянными сулейками с кумохой. Как почетный гость, Поярков сидел в переднем углу, голову склонив набок, зыркал ястребиным глазом своим по полкам, по стенкам. На стороне хозяина сидели его почетные слобожане.
Хабаров молчал, его слобожане сидели опустив голову, только Агафья сверкала гневным взглядом узких глазок, гремела блюдами и посудой, меняя братины.
Тут вдруг оторвался от жаркой еды, покончив с оленьей губой, Патрикей Петров.
— Мы-то тамотко-то, — вдруг хрипло заговорил он из меховой своей бородищи, — в амбарах-то, глянем. Сами! Пошарпаем…
И захохотал ощеренной пастью с тремя желтыми зубами, снова занося засапожник над крашеным деревянным блюдом с жареным лебедем.
Хабаров поднял вверх обе большие свои руки.
— Государи! — сказал он. — Много ли это, что мы и нажили? Сибирь-то велика. Эх! Все, что делали мы, не себе делали. Для того чтобы народ свободно, в достатке жил, чтобы тут крепко ногу поставил да дальше ступал. На восход солнца. Там, сказывают, народы живут широко и богато, земли великие, ровные, пашенные. В серебре люди ходят. В шелках. Сказывают тоже, одежа у них с нашей схожа. И церкви с колокольным звоном. И люди там живут смирные. Туда нужно идти.
— Куда это?
— На Амур-реку, вон куда! И туда я, собрав охочих людей, идти хочу.
По-соколиному Поярков метнул глазом на Хабарова.
«Чего задумал! А? Ишь выискался какой! Соберет людей. Им што, сами остроги поставят, города, слободы, сами все работать умеют. Своим обычаем в Сибири жить будут. Чо будем с воеводой делать? Нет, надо нам самим вперед выходить. Ей-ей! Опасно. Упредить нужно воеводу Петра Петровича, как бы Хабаров вперед не заскочил!»
Спозаранку похмельные воеводские злые писцы шныряли по слободе с листами, с гусиными перьями за ухом, заскакивали в избы, рылись в рухляди, перетряхивали все животишки слобожан. Подьячий Парфен Окунев поставил стол свой на площадку против хлебного амбара и, сидя на опрокинутом окоренке, желтый с перепоя, записывал в книгу, как слободские мужики перевешивали, сдавали и на выгреб зерно.
Десяток стрельцов, покачиваясь еще в дреме, стояли тут же, опершись на бердыши.
— Ходи ногами! — выкачивая глаза, покрикивал Парфен на хмурых слобожан. — Научу вас, окаянных, какая она есть, царская служба! Ишь морды наели — не оплюешь. Ж-жива!
Два дня грузили хлопотливо стрельцы в свои струги, в захваченные слободские кочи и дощаники меха, шкуры, рыбу соленую и вяленую, шубы, шапки, меховые, камусовые унты — в Якутском остроге научили их уму-разуму лютые морозы. Веселее всего шла погрузка зерна — взяли здесь больше трех тысяч пудов да много еще соли.
Еще через день тяжело груженная флотилия Пояркова двинулась в путь к Якутскому острогу, увозя с собой захваченного стрельцами скованного Хабарова: Поярков приказал при проводах схватить его и посадить на свой струг.
— Ты воеводе Петру Петровичу дашь еще ответ в самовольстве твоем, знамо дело. Как на дыбу подымем, — грозил Поярков Хабарову, — заговоришь прямо к делу, куда соболишек схоронил с твоими ворами. Ска-ажешь, вор!
И разоренные слобожане, стоя на берегу, молча следили, как вольно вниз по течению уходили по Лене воеводские струги. На полночь, домой, в Якутский острог.
На переднем сидел, насупясь, измяв бороду кулаком, письменный голова Поярков, обдумывая думу, как не допустить самовольства Ерошки Хабарова, как пройти вперед и обозначить новые земли на Амуре: и самому выгодно, и государь не забудет верной его службы.
Глава пятая. Селивёрст Пухов
Селивёрста Пухова Тихон привел в избу, за стол никого из своих не звал. Марья, сверкая зубами и глазами, сама собирала стол, как положено на такой праздник, уставила братинами с пивом, с медом, поставила вино, настойки. Девки понесли еству в глиняных, оловянных, деревянных блюдах — пряженое, пареное, жареное, пироги, баранину, оленину, убранные огурцами да капустой с подливками, с луком да чесноком, рыбу жареную, тельное, миски с похлебкой, ухой, со сладким взваром.
Больно был рад хозяин нежданному гостю, угощал, подкладывал, наливал, оживало ведь пережитое, вставала Двина в золотых песках, Сёмжа, изба Паньшиных.
Доброе пиво, поданное иноземной девкой, косоглазой чернавкой, развязывало путаные петли, в душах, таяло, грело в груди, и под праздничный топот пляски со двора, под песни да веселые голоса оба мужика помягчели, заговорили.
— Бежишь, стало быть? — спросил Тихон, заглядывая в пустую братину, а вошедшая на этом слове Марья, как конь, вздернула головой. — Марья, девке скажи, нацедила бы пива… — добавил он.
— Бежим! — отозвался Селивёрст и сверкнул исподлобья взглядом — Куда денешься!
— Для чо?
— А кому на рать идти охота? На войну! У Ревякина я в артели ходил, у Ивана Васильевича, лодьи в Вологду гонял, а он в датошные люди [84] меня определил. Мне подводу давал, с подводой посылал… «Ты, говорит, Селивёрст, иди воюй, господь с тобой… Ты-де у меня в кабале. Я, говорит, тебе полвтора рубля на одежу давывал… Верно?» — «Верно, говорю, брал я!» — «А ты не доправил?» — «Не!» — «Так что ж, говорит, я с тебя возьму? Ступай в ратные люди, с моей подводой…» Я и побежал, бросил все!
— Царь рать прибирает?
— Нет, не царь! Кабы царь!
— Кто же?
— Патриарх! — вздохнул Селивёрст.
— Патриарх?
— Ага! Новый! Никон-патриарх! И приказал он, Никон, сбирать в Устюге подводы да гнать их под Кромы… На рубеж. Война, чу, будет!
Тихон улыбнулся:
— Его ли это, патриаршье, дело?
— Е-го-о! Патриарх-то теперь, сказывают, все указывает царю. В царя он место…
Селивёрст опять обугрюмел, взгляд ушел глубоко, однако сутулость исчезла, выпрямился, тряхнул волосами, поднял брови: трудны слова черным людям!
— Бают, патриарх-то ноне царя поболе! — прогудел он. — Силен он, государь!
— Кто ж так лает неподобно? — пригнулся к скатерти Тихон.
— Монахи сказывали. Соловецкие. Я на Соловки подался, как убежал-то! Чо делать? Монахи, они все знают! Грамотные, — шептал Селивёрст. И тоже грудью налег на стол, раскинул по суровой скатерти черные руки-клешни. — Беда идет, бают! В деревнях курицы петухами поют. Патриарх ноне царем правит. Да-а!
Силен патриарх! Ой, беда, беда! Царь обещание дал из воли Никона не выходить. И, сказывают, весь народ видел — царь да бояре поклоны перед Никоном бьют, а покойник ручку эдак из гроба поднял, костяным пальчиком грозит. Страсть! Ну, потом опять лег в гроб.
Сквозь свисшие со лба прямые космы волос очи Селивёрста горели углем.
Окна горницы были настежь, широким кругозором глядела в них вековечно свободная, тихая земля Сибирская, в тайге кое-где полыхали алым огнем первые клепи.
Селивёрст рассказывал все это потрясенно, коряво, приукрашенно, да так, почитай, оно и было, как он говорил.
В жаркий июльский день переполнивший Успенский собор народ московский, чины, бояре, духовенство во главе с царем Алексеем у гроба Филиппа стояли на коленях перед Никоном, митрополитом Новгородским и Великолуцким, кланялись земно со слезами, потрясенно, умоляя жесткобородого, седеющего гордеца возложить на себя сан патриарха Московского и всея Русии, чтобы спасти земное могучее царство, насквозь просветив его вечным небесным светом. Вопящему, рыдающему народу в могучем монахе, в пудовых золотых ризах чудились великие силы и орлиная зоркость духа. Косматые, бородатые головы кружились от веры, курился синий ладан над высокими сводами меж четырех столпов Успенского собора, солнце сияло над Москвой, над блаженной толпой, стоявшей на коленях по всей Ивановской площади. Казалось, сам господь бог с сонмом небесных сил своих — вот-вот сойдет с небес, укрепит этих мятущихся, взволнованных людей Москвы. Твердо, хитро и расчетливо шел Никон по пути, который предсказал ему когда-то мордовский колдун.