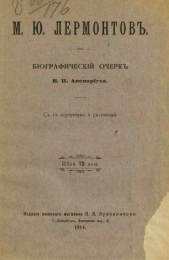Лермонтов
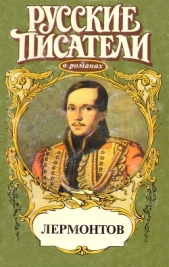
Лермонтов читать книгу онлайн
Произведения, включённые в книгу, посвящены Михаилу Юрьевичу Лермонтову и охватывают всю жизнь великого поэта.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
При этих словах все переглянулись в предвкушении неожиданного и подвинулись поближе, словно сам вертлявый граф Михаил Юрьевич Виельгорский незримо явился в красную гостиную, едва освещённую сейчас единственной лампой. Углы тонули в густом мраке, и лишь лицо Лермонтова — скуластое, смуглое, обуреваемое скрытой энергией даже в минуты покоя — чётко выступало из темноты. Когда он перешёл к описанию Лугина — приземистой нескладной фигуры с широкими плечами, — слушатели снова невольно переглянулись, словно обменявшись сравнением автора и его героя. Впрочем, это было уже последнее отвлечение; все подпали под обаяние повести. Сначала незримо находились в угловой гостиной дома Виельгорских с лепными головками в медальонах вдоль стен под потолком, а в зевающей даме явственно разглядели Смирнову (она тоже узнала себя, и это почему-то слегка смутило, даже напугало её: ничего дурного в портрете Минской не было, а ей стало не по себе, словно Лермонтов понял в ней всё, хотя сказал немногое). Затем гуськом двигались по промозглой от серо-лилового тумана улице, хлюпая калошами по снегу пополам с грязью. Картинки жалкой утренней жизни вспыхивали на мгновение и гасли в разыгравшемся воображении. В общем, гости Карамзиных находились довольно далеко от тёплого уюта затемнённой гостиной; своенравие автора выманило их к Кокушкиному мосту в поисках Столярного переулка. А шлёпанье старческих шагов таинственного Штосса глухой полночью в дальней комнате оледенило их ничуть не меньше самого Лугина, который трепетно вглядывался в полумрак распахнутой двери. Они томились вместе с героем лихорадочным нетерпением и досадой, когда Лермонтов отрывистым взволнованным голосом произнёс, почти не глядя в рукопись:
— «Надо было на что-то решиться. Он решился».
Несколько секунд он молчал, неподвижно глядя перед собою. Внезапно отбросил тетрадь и засмеялся:
— Это всё.
Слушатели ошарашенно задвигались. Софи жалобно пролепетала:
— Как — всё? Но что же случилось дальше?
— Сам не знаю, милая Софья Николаевна. Придумаю как-нибудь на досуге.
Но ещё не сразу перешли они к обычной болтовне, к шутливым упрёкам, что Лермонтов их провёл, оборвав начатый роман на интересном месте. Внесли канделябры с зажжёнными свечами, стало светло; таинственность понемногу таяла.
Лермонтов провожал графиню Ростопчину, сидя в её карете и отпустив своих лошадей. За весёлой мистификацией он скрывал понятное авторское беспокойство. Фантастическая завязка несколько смущала, и он хотел знать мненье чуткой Додо об этой едва им начатой рукописи. Осмелившись взять её захолодавшие пальчики в свои ладони, он бережно и дружески согревал их.
— Вам было очень скучно? Я сочинил несообразность? Не щадите меня. Цель была показать любовь, которая родилась от желания защитить и спасти... Это смешно?
— Милый Мишель, — сказала Додо глубоким грудным голосом, который появлялся у неё нечасто и всякий раз напоминал Лермонтову воркованье дикой горлинки в кавказских лесах. — Начало повести чудесно, как предвестье тайны. Но Боже мой! Вы всё-таки ещё ребёнок, не знающий настоящих страстей и лишь подражающий им с трудолюбием. Не знаю, по какой причине вы гримируетесь под старика... Я завидую той, которую вы наконец полюбите с пылом истинной юности... Нет, не отвечайте мне. Не портите нашей доверительности пустым комплиментом. Вот я и дома. Кучер отвезёт вас. Прощайте. — Она поцеловала его в лоб и вышла из кареты.
Дыша петербургским воздухом, Лермонтов всё чаще думал о Пушкине, примерял его судьбу к своей. И всё больше находил несовпадений.
Пушкин жил в окружении людей, близких по духу. Лицейское товарищество было важнейшей частью его жизни, тем светлым кругом от лампы, где душе казалось вольно и уютно посреди российского последекабристского мрака... Лермонтов, как и Тютчев, прошёл мимо Пушкина, ни тот, ни другой не были им замечены, находились за чертой света, хотя стихи их он читал. Возможно, у Пушкина и не было особой жадности к новым дарованиям? Он сам был переполнен до краёв. То, что он хвалил (и, наверное, искренне) стихи своих поэтов-приятелей, говорило лишь о том, что их пусто́ты и слаби́ны он безотчётно заполнял собою. Он нуждался в ласке и побратимстве. Лермонтов мог обходиться самим собою.
Пушкин не выходил из-под обаяния образа Петра. Восхищался им и противоборствовал ему, искал точной исторической оценки.
Для Лермонтова Пётр словно вовсе не существовал. Самой влекущей фигурой в истории для него стал Наполеон — почти современник (когда умер Наполеон, Лермонтову было уже одиннадцать лет). Иван Грозный был интересен не столько как личность, сколько как весь отрезок времени, придавленный тяжёлой дланью царя, — и то, как выпрямлялись люди, вырывались из-под этой длани. Мотив в высшей мере созвучный самому поэту! Но Пугачёв притягивал их обоих. Они постоянно возвращались к нему и пером и мыслью...
— Ага, любезный друг! — вскричала Софи Карамзина, слегка прихлопнув от удовольствия ладошками. — Сейчас я намерена нанести вам удар неотразимый. Вы толкуете о новшествах, а Пушкин... ведь вы обожаете Пушкина?.. видел силу и вечную юность поэзии лишь в том, что она остаётся на одном и том же месте, тогда как век может идти вперёд вместе с науками, философией и гражданственностью, куда ему вздумается.
— Я не знаю таких слов у Пушкина.
— Тем не менее он их говорил, даже читал у нас набросок. Вы убеждались не раз в точности моей памяти. Уж её-то не возьмёте под сомнение?
— Упаси Боже!
— Так же как, надеюсь, и нашу семейную привязанность к бедному Александру? Он дарил нас доверием. Мы его хорошо знали и любили.
— Видимо, мы любили двух разных Пушкиных. Его несовпадающие половинки.
— Фи, теперь вы изъясняетесь не поэтически, а анатомически, — прекращая спор весёлым каламбуром, поспешно сказала признанная остроумка.
Резкие суждения — удовольствие, в котором Лермонтов не мог себе отказать время от времени, — как сахарной облаткой, обволакивались им салонной болтовнёй.
Однажды он написал в альбом Софи что-то слишком обнажённое, как часть сорванного бинта с раны — и что же? Милая вольтерьянка всполошилась, не поняла, почти обиделась. Поддавшись раздражению, он вырвал злополучный листок, изодрал на мелкие клочья и неделю не переступал карамзинского порога.
Но ему стало скучно, и, трезво разобравшись во всём, он остался решительно недоволен собою. Вольно ж ему было преувеличивать степень дружественности, на которую способны завсегдатаи салона! Он мог бы повторить слова Печорина, обращённые уже не к Грушницкому, а к себе самому: «А зачем ты надеялся?»
Зато следующий экспромт вызвал всеобщее удовольствие: демонический Лермонтов выступал в нём утихомиренным, покладистым, почти приручённым.
Софи смотрела из-за его спины, слегка опираясь рукой на его плечо. Продолжая любезно улыбаться, Лермонтов не совладал с собою. Как когда-то барышне в Середникове, он написал в осточертевшем альбомчике прямую дерзость («Три грации считались в древнем мире. Родились вы... их три, а не четыре»), так и тут в последней строфе пустил во всю компанию этакую небольшую и лишь чуть-чуть жалящую, но всё-таки стрелу!
Он неосязаемо отделял себя ею от приятного общества. Но делал это неприметно, зашифрованно. Лермонтов привык к шифрам ещё с тех юных лет, когда, рисуя облик постаревшего, худо побритого отца, неотличимого от множества других разбросанных в беспорядке на листе профилей и анфасов, вписал в штриховку отцовского халата ломаными буквами «Лермант». Или поместил заветные инициалы на плаще Наташи Ивановой — впрочем, имеющей для него уже тогда в нахмуренном облике драматические черты, что подтверждалось и видом облетевшего, сиротливо обнажённого дерева на рисунке рядом с нею... Теперешний шифр был добродушнее и ловчее: