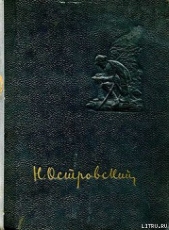Перед бурей
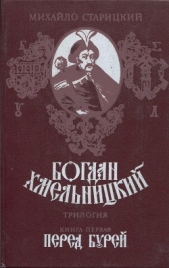
Перед бурей читать книгу онлайн
В романе М. Старицкого «Перед бурей», составляющем первую часть трилогии о Богдане Хмельницком, отражены события, которые предшествовали освободительной войне украинского народа за социальное и национальное освобождение (1648-1654). На широком фоне эпохи автор изображает быт тех времен, разгульную жизнь шляхты и бесправное, угнетенное положение крестьян и казачества, показывает военные приготовления запорожцев, их морской поход к берегам султанской Турции.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Все передам, все сделаю, брате, — ответил угрюмый Ганджа.
Богдан сжал ему руку, подошел к Кривоносу и Чар ноте, снял с головы высокую шапку и, поклонившись всему козачеству, произнес голосом твердым и громким:
— Панове, едем! Я ваш!
— На Запорожье! — как один голос раздался восторженный крик множества голосов, и сотня обнаженных сабель взвилась над его головой.
XIV
Морем разлился Днепр и неудержимо несет свои мутные воды; кружится водоворотом у круч, режет песчаные берега, бросается боковою волною на потопленные острова и мчится бурно серединой. На огромном водном пространстве мережатся то сям, то там верхушки верб и осин: в иных местах низкорослый верболоз и красно-синяя таволга, унизанные изумрудною зеленью, колышутся волнами, словно засеянные на воде нивы; изредка, в одиночку, угрюмо торчит из воды своею обнаженною чуприной либо дуб, либо явор, а там дальше — синева разлитых вод сливается с туманною далью.
Только правого, более высокого берега не одолеть разгулявшемуся Днепру; обвил буйный многие острова своими пенистыми волнами, да не осилит гранитных глыб: гордо они выставили свою каменную грудь против стремнины и защищают любимцев своих козаков-запорожцев. Издавна уже поселились те на этих диких гнездах орлиных и оживили удалью глушь, а теперь пестрою толпой копошатся на берегу наибольшего острова. Все они заняты усиленной работой — постройкой флотилии чаек. Ласковое весеннее солнце обливает яркими лучами и одетую в нежный наряд природу, и кипящую пестрою картиной на берегу жизнь. Словно муравьи, рассыпались запорожцы, разбились на разные группы и хлопотливо работают, снуют по берегу и по лугу: одни выдалбывают для оснований чаек громаднейшие стволы столетних лип, другие пилят ясень и берест на доски, третьи смолят и паклюют оконченные, сбитые чайки, некоторые по колени в воде тянут веревками бревна на берег, а иные на легких челнах ловят их по Днепру. Во многих местах на берегу пылают и дымятся костры: здесь в котлах кипятят смолу, там кашевары готовят обед, а вон, под лесом, парят для обручей лозу. Шум, говор и гам стоят в воздухе, и разносятся далеко эхом перебранки; крики заглушаются стуком топоров и молотов из длинного ряда кузниц; из ближайшего острова доносится треск падающих деревьев. По временам прорезывает весь этот гам или зычный крик с острова: «Лови! Переймай!» — или удалая, затянутая могучим голосом песня.
По одеже группы пестрят живописным разнообразием: между серыми из простого сукна свитками краснеют во многих местах и дорогие жупаны, и бархатные кунтуши, и турецкие куртки, между синими жупанами яркими пятнами белеют шитые золотом и шелками сорочки... А на самом припеке в живописных позах лежат и покуривают люльки совершенно обнаженные козаки, блистая своим богатырским, словно из бронзы вылитым телом. Издали весь этот копошащийся люд кажется тучей красненьких, весенних жучков, прозванных в Малороссии козачками.
В северной части, внутри острова, растет лесок вековых дубов, ясеней, грабов, а ближе к самой круче Днепра кучерявится уже светлою зеленью более молодая поросль кленов. Здесь под присмотром опытного старого чайкаря Верныдуба рубятся тонкие и высокие деревья на мачты, а в леску небольшая кучка козаков рубит величественный ясень под корень. С трех сторон врезывается сталь секир в его мощную грудь; при каждом ударе влажные белые щепки летят в сторону, дерево вздрагивает и издает короткий, глухой стон; зияющие раны проникли уже глубоко внутрь и скоро коснутся сердцевины.
— Проворней, братцы, проворней! — командует седоусый козак Небаба {89}, заведующий рубкой. — Через десять дней поход, а нам еще нужно четыре чайки построить. Гей! — взглянул он на ясень, — полезай там, который из новых, молодших, да закинь веревку за ветви: нужно, братцы, валить дерево вон в ту сторону; там способнее будет отесывать, а то, гляди, чтоб оно не шарахнуло в гущину, тогда, кроме лому, ничего путного не выйдет.
— Да, оно как будто бы действительно норовит на гущину гепнуть, — глубокомысленно соображал, вонзив топор в ясень и раскуривая свою люльку, мрачный, средних лет запорожец, весь испещренный шрамами, Лобода. — Сюда, ко мне как будто и накренилось, и уже трохи хрипит... должно, скорую смерть чует, — присматривался он, поднявши голову к вершине, — качает уже, братцы, качает... А что же не лезет никто?
Переглянулись недавно прибывшие Иван Цвях и Гузя, почесали выбритые затылки, повели плечами, а лезть не решились.
— Что же вы, гречкосеи, чухаетесь, а лезть не лезете? — прикрикнул на них седоусый Небаба.
— Да боязно, — несмело ответил Гузя, — вон где высоко начинаются голья... Вскарабкаться-то можно, — а вот как вместе с деревом шлепнешься, так только мокрое место останется.
— Ишь, отъелся на хуторах галушками, так и вытрусить их не хочет, — ворчал дед. — Коли уходил от ляшского канчука к братчикам, так не затем, чтобы нежиться, а затем, чтобы закалить свою силу и удаль, чтобы приучить себя ежедневно смотреть на курносую смерть, как на потаскушку, и презирать ее, вот что! А то мокрое место! Сухенькое любишь? Перину тебе подостлать, что ли?
— Полезу я, — отозвался средних лет запорожец, с благородными чертами лица, легший было под ясенем отдохнуть и покурить, — ведь я тоже не из давних.
— Нет, что ты, Грабина, — остановил его Небаба. — Лежи: не пристало тебе, при твоих летах, по деревьям царапаться, — ты и так уже заслужил отвагою славу... А вот эти молодые лантухи...
— Да я не то, — оправдывался сконфуженный Цвях. — Оно, конечно, кто говорит, только вот, если подумать, как будто... а оно, конечно, плевать! Ну все же, если бы кто легкий полез, чтоб, стало быть, дерево выдержало. Вон, примером, хоть он! — указал храбрец на молодого хлопца, бежавшего веселою припрыжкой к кленовому леску.
— Да, это верно! — заметил Лобода, выпустив люльку изо рта. — Гей! Морозенко! — махнул он рукой. — Стой, чертов сын! Куда ты? Слышишь, Олексо? Го-го! Сюда!
Хлопец, услыхав крик, остановился и повернулся к кричавшему: это был наш знакомый Ахметка, немного возмужавший, окрепший, но с таким же беспечно-детским выражением лица и приветливою улыбкой.
— Кричат, а ему как позакладало!
— Да я не привык еще добре к вашему прозвищу, — оправдывался подошедший хлопец. — Вот если бы кто крикнул: «Ахметка», так я за двое гонов почул бы.
— Э, пора, хлопче, забывать тебе твою татарщину! — строго заметил дед. — Ты хрещеный, у тебя есть святое, а не поганское имя, а прозвище, коли его товарыство дало, должно быть для тебя дороже, чем королевский декрет.
— Диду, да нешто я не дорожу? — вспыхнул Олекса. — Карай меня бог! Это мне тогда спервоначалу было стыдно, что за отмороженные уши такую кличку дали, а теперь все равно — Морозенко так и Морозенко!
— Так и гаразд! — подтвердил дед. — Ты уже и с ползапорожца, и господь тебя не обидел ни умом, ни отвагой: станешь славным лыцарем, добудешь себе столько славы, что и прозвище твое станет на весь свет славным.
— Спасибо, диду, на ласковом слове, — поклонился Морозенко. — А что мне почтенное товарыство прикажет?
— А вот полезай на этот ясень да забрось веревку за вон тот сук! — показал дед рукой.
— Давайте! — схватил Олекса веревку, перебросил петлю через плечо и, как кошка, покарабкался вверх. Ясень слегка заскрипел и начал заметно качаться верхушкой.
— Не выдержит, — угрюмо заметил Лобода, усевшись прямо под деревом и смакуя люльку, — ишь, как его шатает ко мне! Хлопче, с другой стороны! Слышишь, Морозенко, с другой стороны залезай, не то пришибет!
— А ты-то сам чего сидишь? — заметил дед. — Башки не жаль, что ли?
— Да, как раз на тебя, Лобода, качает дерево, — заметил и лежавший в стороне Грабина.