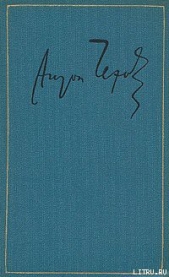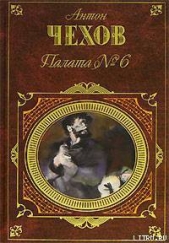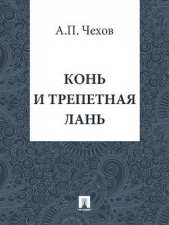Ранние сумерки. Чехов
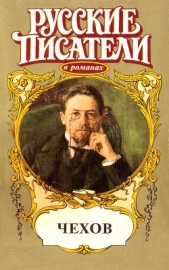
Ранние сумерки. Чехов читать книгу онлайн
Удивительно тонкий и глубокий роман В. Рынкевича — об ироничном мастере сумрачной поры России, мастере тихих драм и трагедий человеческой жизни, мастере сцены и нового театра. Это роман о любви земной и возвышенной, о жизни и смерти, о судьбах героев литературных и героев реальных — словом, о великом писателе, имя которому Антон Павлович Чехов.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Ваша Лика».
Он сидел над романом, листал записную книжку, выбирая подходящие записи. Задумался над страницей, отмеченной рукой Танечки Щепкиной-Куперник, — через всю страницу, поверх записей, красными чернилами: «Антоша, мы вас обожаем».
Прочитав письмо Лики, решил, что есть повод поговорить с Машей. Нашёл сестру в её комнате за мольбертом — писала зимний пейзаж. Похвалил — пейзаж действительно получался, жаль только, что получался похожим на тысячи других пейзажей, написанных тысячами художников.
— Лика говорила тебе, что забыла у нас свой крестик?
— Нет, но я его нашла. Он там, на столике.
— Поедешь в Москву — не забудь захватить.
— Хорошо.
И потом, будто случайно вспомнив:
— Кстати, я забыл спросить, Таня и Яворская тогда ночевали в твоей квартире?
— Ты же сам передал мне записку. Потом как-то ещё раз ночевали, когда меня не было.
Вернулся к себе, сел в кресло и подумал, что надо срочно уехать за границу или в Крым, чтобы освободиться от странных отношений со странными людьми. Недавно в Москве он получил записку от своих луврских сирен:
«Немедленно, прошу Вас, заезжайте на квартиру Марьи Павловны или как бы то ни было предупредите тех, кто там находится (находится ли там кто-нибудь?), что Лидия Борисовна проведёт там сегодняшнюю ночь.
Татьяна и Лидия».
Всего на несколько дней приезжала Таня в Мелихово, и чуть ли не на второй день после её приезда пришло письмо от Лидии:
«Дуся моя, пора!.. С пера больше не капают стихи, а писать Вам в прозе по чувствам моим совершенно не в состоянии, поэтому пришлите мою Таню. Пусть лучше погибну, но Вам буду писать в стихах! Серьёзно, пожалуйста, уговорите её приехать...»
В Москве, в редакции «Русской мысли», встретил Гольцева, вышли вместе, сильно мело, спешили в разные стороны, однако Виктор нашёл закоулок без ветра, остановил и спросил шутливо, но с осторожностью, как рассказывают острые анекдоты в незнакомой компании:
— Как адмирал относится к этим сплетням о наших сиренах? Может быть, пора пресечь или высечь?
— Кого будем сечь?
— Или сплетников, или грешников, то есть грешниц, хотя и сплетня тоже грех. Что молчишь, Антон? Неужели ничего не знаешь?
— Я ведь живу отшельником в пустыне.
— Начитались наши сирены Мопассана или, скорее, Золя. Помнишь «Нана»? Она тоже этим занималась. Уже чужие люди говорят, что у Таньки роман с Лидией...
Писатель Чехов никого не судит — он не хочет участвовать. Даже не хочет знать. Поэтому он и не продолжил знакомства с Мережковским [52], с которым встретились в Италии во время путешествия с Сувориным. Зинаида Гиппиус тогда слишком горячо убеждала его о преимуществах брака втроём, а не получив ожидаемого ответа, сказала: «Никогда не станете большим писателем — вы слишком нормальны».
XXXIII
Небо душило мутной гущей облаков, задымивших Аюдаг, они опускались до крыш Ялты, стаивали белым туманом над стеклянно-сизым морем. Истерически кричали невидимые чайки, мучил кашель, сердце давало перебои. Хотелось телеграфировать Суворину, чтобы выслал в долг тысячу, и уехать в Париж.
Он знал, что Лика и Варя Эберле едут туда и что там живёт супруга Потапенко, но срочный отъезд Игнатия, сразу следом за Ликой и Варей, вызвал, казалось бы, забытую, не совсем понятую тоску: не то ревность, не то сожаление о несостоявшемся, не то неприличную игру раненого самолюбия. Кашель не прекращался, и приходили унылые мысли о том, что он прозевал и Лику, и здоровье.
Яворская тоже уехала за границу от московского Великого поста, но телеграмма с дороги в Ялту неожиданно была подписана двоими: «Ждём в Париже. Любим, целуем. Таня, Лида. Варшава. 6 марта». Не совсем, конечно, неожиданно, тем не менее и это неприятно раздражало.
Но вскоре море заиграло золотистыми гребешками, на подсохших тротуарах появились гуляющие в летних пальто, сердце успокоилось, и ялтинские девицы на набережной даже показались похожими на римских черноглазок. Он знал только одно итальянское слово, когда путешествовали с Сувориным, и неустанно пользовался им, задавая каждой встречной одинокой барышне вопрос: «Guanto? [53]» Они удивлялись, возмущались, смеялись, и лишь одна ответила: «Cinguo» [54]. Суворин был страшно доволен.
Ялта, как и он сам, конечно, изменилась за пять лет — другие ветры, другие люди. Мадам Яхненко, пообещавшая как-то купить «всю эту поганую Ялту со всеми татарами, хохлами и шмулями», разъезжала по столицам. Дача Стрепетовой в Аутке пустовала — знаменитая актриса, учившая его, как правильно писать пьесы, стала героиней жизненной драмы: застрелился её новый муж. Был в два раза моложе её, ревновал супругу, терпел насмешки, но терпения не хватило. Гурлянд служил в Ярославле. Леночка тщательно пытается стать актрисой в обществе, которым руководят Немирович-Данченко и Костя Алексеев, собиралась на лето в харьковское имение, жаловалась на мать, потребовавшую от неё «определиться», что означало выйти замуж.
Изменился не только он сам, писатель Чехов, но изменилось и представление других людей о нём. Он стал писателем, которого знает Россия. В первый его приезд сюда о нём слышали, кое-кто читал его рассказы в «Новом времени». Тогда тоже встречали, но знали немногие. Теперь его узнавала вся набережная, и гулять одному было неприятно. Спутники, разумеется, нашлись. Главный бас Большого театра Миров жил в той же гостинице «Россия» и сам пришёл с визитом, «как поклонник таланта и пациент» — жаловался на лёгкие. Конечно, и во время прогулок с ним узнавали, но теперь узнавали двоих. Знакомые говорили, что люди на набережной специально собираются глазеть на знаменитостей.
Миров дал концерт — пришлось, конечно, пойти. Зал — битком, певец получил чистых сто пятьдесят рублей, а местный журналист объяснил, что пришли не на Мирова, а на Чехова. Возможно, так и было — он сам слышал в фойе со всех сторон: «Чехов! Вон он стоит! Вон он пошёл!»
Если ты признанный русский писатель, то от тебя ожидают новых слов, новых образов, новых серьёзных мыслей — русские читатели привыкли получать это от Гоголя, Пушкина, Тургенева... Он должен был написать хотя бы один рассказ, поднимающий человека над суетой его короткой жизни, чаще всего бестолковой и неудачной, напомнить о высших ценностях бытия, о том, что и он идёт в непрерывном ряду тех, кто вёл человечество из первобытных пещер к благам цивилизации. Он должен показать, что свет правды и красоты освещает жизнь каждого даже самого тёмного, замученного нищетой и работой крестьянина, тупой, неграмотной, забитой русской бабы.
Он знал, какими словами можно взволновать душу необразованной, неграмотной женщины, как знали это великие основатели христианского учения. Он видел героя, молодого студента, думающего о несчастной нищей жизни своих земляков, верящего в силу слова добра и правды.
В страстную пятницу, в холодный ветреный вечер, студент рассказывает у костра евангельскую притчу о Петре двум женщинам-вдовам — матери и дочери:
« — ...Он третий раз отрёкся. И после этого раза тотчас же запел петух, и Пётр, взглянув издали на Иисуса, вспомнил слова, которые он сказал ему на вечери... Вспомнил, очнулся, пошёл со двора и горько-горько заплакал. В Евангелии сказано: «И исшед вон, плакася горько». Воображаю: тихий-тихий, тёмный-тёмный сад, и в тишине едва слышатся глухие рыдания...
Студент вздохнул и задумался. Продолжая улыбаться, Василиса вдруг всхлипнула, слёзы, крупные, изобильные, потекли у неё по щекам, и она заслонила рукавом лицо от огня...»
Работа над этим рассказом занимала его больше, чем обычно. Он поспешно пообедал, отказался и от отдыха, и от прогулки. Его гостиничный номер, выходивший окнами на море, был так наполнен светом, что хотелось немного пригасить. Незаконченная рукопись звала к работе, посетителей он не ждал и, когда постучали, намеревался встретить резким отказом, но... На пороге стояла милая молодая блондинка и смотрела на него робко и в то же время настойчиво, словно забыла здесь что-то и просит, чтобы ей отдали.