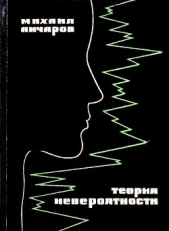Золотой юноша и его жертвы

Золотой юноша и его жертвы читать книгу онлайн
Романы Августа Цесарца (1893–1941) «Императорское королевство» (1925) и «Золотой юноша и его жертвы» (1928), вершинные произведем классика югославской литературы, рисуют социальную и духовную жизнь Хорватии первой четверти XX века, исследуют вопросы террора, зарождение фашистской психологии насилия.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Он проклят! — терзал себя смертельно измученный старый Смудж, и вновь на него наваливалась тоска, а с ней появлялся и страх — страх чего?
В эти минуты, чувствуя слишком сильное возбуждение, которого он и опасался, направляясь в театр, он думал: а не лучше ли выйти из зала и совсем уйти? Но не в состоянии протискиваться через целый ряд занятых людьми кресел и желая узнать, что будет дальше, он продолжал сидеть, так дождался и следующей картины — сцены смерти Валентина.
Его смерть он пережил как последний удар.
Мутным, почти омертвевшим взглядом всматривался он в сцену и после того, как опустился занавес; в его глазах запечатлелась мрачная картина хора, собравшегося вокруг погибшего Валентина и его, им же проклятой, сестры; а в ушах все еще звучала исполненная хором песнь печали и особенно мелодия, которой жалобно, словно это был последний вздох всех скорбящих, закончил сцену кларнет.
Та-тарара, та-рара! — что это, только ли оплакивание человека, умершего по ходу своей роли, а потом ожившего и как ни в чем не бывало продолжающего жить?
Там, возможно, да, здесь — нет; здесь старый Смудж, мучаемый теперь вполне осознанным страхом, что подобное могло произойти с ним именно тут, думал о своей собственной смерти.
Эта мысль заныла в нем, сжала его, готовая в любую минуту свалить.
Впрочем, пока эта мысль была слаба и мимолетна, он не поддался ей, устоял и сделал это просто: взял и заменил ее на другую, противоположную: смерти можно избежать, уйди он отсюда; да, нужно уйти, он уже достаточно насмотрелся.
Да и выбраться сейчас было легче, потому что из его ряда многие вышли. Но задержало его опять нечто непредвиденное; кто-то возле него упомянул имя Панкраца!
Рядом с ним сидели две девушки, одна повыше ростом и постарше, с резкими чертами на бледном и несколько заостренном лице, другая помоложе, почти ребенок, смуглая и с каким-то болезненным выражением лица; ее нездоровый вид еще больше подчеркивали глаза, блестевшие, словно в лихорадке. Уже после предыдущей картины старый Смудж, поглощенный своими заботами, неосознанно заметил, что младшая слишком часто подносит к глазам платочек, а старшая ее успокаивает. Теперь он ясно увидел, хотя девушка и старалась это скрыть, в ее глазах слезы и услышал голос старшей:
— Перестань, лучше совсем забыть такое ничтожество, как Панкрац, будто его и не было!
Примерно так или что-то в этом роде было сказано, но имя Панкраца произнесли довольно отчетливо вторично, и снова в плохом смысле. Неужели речь шла именно о его Панкраце? — содрогнулся старый Смудж, глядя на поднявшихся со своих мест девушек, собирающихся выйти. — Скорее всего, ибо где еще найдешь такое ничтожество, как его Панкрац? Если и есть еще один похожий, то от этого его Панкрац не перестал бы быть таковым, а в данном случае, что касается девушки, речь шла наверняка об очередной его жертве!
Да и кто не был его жертвой! — подумал Смудж, имея в виду прежде всего себя и всех своих домашних; и в нем с новой силой вспыхнуло негодование, сопровождаемое старческой бессильной ненавистью.
Длилось оно всего минуту и быстро погасло: вступив на опасный путь мыслей о преступлениях и жертвах Панкраца, он поскользнулся, споткнувшись о воспоминания о своих собственных жертвах. Да, не обошлось без них — и в этом смысле чем он лучше Панкраца?
Он растерялся, задрожал: он имел в виду не только дочерей! Как бы он с ними не поступал, у обеих судьба сложилась так, как и должна была сложиться у каждой женщины; что бы там ни говорили, но обе они неплохо вышли замуж.
Но можно ли то же самое сказать о третьей, маминой дочери, матери Панкраца? Кх-а, может, Панкрац мстит ему за свою мать?..
Правда, это была настоящая чертовка, самая худшая из всех трех! Сколько денег потратил он на нее, пока не вылечил от той болезни, которой ее наградил неизвестно какой кавалер, и разве она постоянно не крала в лавке для своих ухажеров? Но ведь то же самое делали и его две дочери! И все же, к своему счастью, заручившись тогда согласием ее матери, ему удалось заставить ее заключить брак, который — и это было сразу очевидно — не мог быть благополучным, — да и как могла эта крепкая, пышущая здоровьем женщина жить с доходягой сапожником?
Закончилось все так, как и должно было закончиться: она продолжала, как и прежде, гулять с другими мужчинами, загубила себя и умерла, в то время как две другие все еще живы и здоровы… Кх-а, да вдобавок насмерть загрызла своего мужа, вогнала его в гроб раньше, чем можно было ожидать… разве и в этом нет его вины?
Конечно, нет! — Старого Смуджа так и подмывало сказать это, но он хорошо помнил, как постоянно обманывал сапожника, убеждая, что в его падчерице он найдет добрую и порядочную жену… а обмануть бедолагу было нетрудно, ибо, не живя в этих местах, он понятия не имел о ее прежней жизни!
Но только ли этот брак и эти две преждевременные смерти тяжким грузом лежали у него на душе?
У Смуджа кровь в жилах застыла, когда он вспомнил о смерти Ценека и Краля. Но при чем тут он, разве он виноват и в их смерти? Не он же замахнулся на Ценека кочергой, не он заманил Краля к разливу, так в чем же он может упрекнуть себя?
Да ведь и не эта девушка Маргарита проколола шпагой своего брата, а все же он проклял ее, обвинив в своей смерти!
Как, почему так получилось, старый Смудж смутно себе представлял и меньше всего его это сейчас интересовало. Перед глазами вдруг возникла нитка жемчуга, которую Маргарите подарил Фауст, и этого сейчас было достаточно, чтобы он по-своему понял и все остальное. Кх-а, жемчуг всему виной, именно он заставил ее потерять голову и отдаться Фаусту, а брат ее из-за этого готов был убить Фауста и погиб… Кх-а, значит, жемчуг! Следовательно… следовательно, — неотвратимо напрашивалось сравнение, встав вдруг перед ним со всей неприглядной очевидностью, — если бы он не попал под власть денег, которые у него крала мать Панкраца, да и Ценек требовал от него, разве бы дело дошло до того несчастного брака и до преждевременной смерти отца и матери Панкраца, а затем… разве могла случиться смерть Ценека и, как следствие, смерть Краля?
Три, четыре смерти, разве это, как считает Панкрац, такой пустяк, из-за которого не стоит и беспокоиться и который может повлечь за собой в качестве наказания только незначительный денежный штраф?
Нет, дело это серьезное и требует самого серьезного наказания… если не от суда земного, то… особенно, если перед ним ни в чем не признаться, — на том свете кара будет суровей!
На том свете, а существует ли он вообще? Панкрац, да и нотариус, и капитан, и многие другие говорят… так думает и Йошко… что его нет! Но жупник утверждает обратное, да и мама, пусть она и ругает попов и в церковь не ходит, а нет-нет да и перекрестится, верит, значит, в бога! А если есть бог… как иначе возник мир, откуда появился первый росток?.. тогда есть и божья кара!
Непременно есть, он думал об этом уже вчера и позавчера! Да вот и Маргарите в церкви черт угрожал адом, и святые отворачивали от нее головы, — какая же кара тогда ждет его?
Ад, еще более страшный, чем тот, который уготовлен этой девушке Маргарите?
Холодным потом, словно стекло каплями дождя, покрылся лоб старого Смуджа. Кашель, до сих пор проявлявшийся только в сдавленных покашливаниях, — а долгое время и их не было, — все сильнее наваливался на него. Но он не дал ему овладеть собой, только слегка кашлянул. Все же это сказки для детей, ада нет, как и не существует наказания на том свете! Если же его нет, то чего он так боится, о чем беспокоится?
Страх, вернее, ужас перед собственной смертью, смертью, которая может произойти сейчас, здесь, как кара за содеянное зло со всей неотвратимостью и впервые вполне осознанно схватил его. Он задрожал, на глаза навернулись слезы, лицо передернуло судорогой; умереть здесь, сейчас, совсем одному, без мамы, без Йошко, без никого.
Нет, не бывать этому! — всеми силами противился он, а кашель до слез немилосердно сотрясал его, вцепившись словно клещами, выворачивая все нутро, скрутил, только что не свалил наземь! Внезапно его скрючило, и он вынужден был, чтобы не упасть, схватиться за спинки кресел, еще более неожиданно все стихло, и он успокоился. Кашель отпустил наподобие пронесшейся бури, удивительное спокойствие овладело им, и в наступившей благодати он завороженно прислушивался к своему дыханию, а может, и к биению сердца.