Брат на брата. Заморский выходец. Татарский отпрыск.
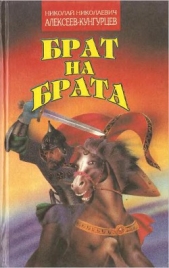
Брат на брата. Заморский выходец. Татарский отпрыск. читать книгу онлайн
Алексеев Николай Николаевич (1871-1905), прозаик.
Из дворян Петербургской губернии, сын штабс-капитана. Всю жизнь бедствовал, занимался репетиторством, зарабатывал литературным трудом. Покончил жизнь самоубийством.
Его исторические рассказы, очерки, повести, романы печатались во многих журналах («Беседа», «Новый мир», «Живописное обозрение» и др.), выходили отдельными изданиями и были очень популярны.
Освещение событий разных периодов русской истории сочетается в его произведениях с мелодраматическими сюжетными линиями, с любовной интригой, с бушующими страстями.…
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Луна чуть проглянет и вновь спрячется за покровом облаков, которые медленно и неустанно ползут по небу, серея, как столбы дыма.
Немало надо храбрости, чтобы ехать одному в глухую полночь по лесной чаще.
В ней много волков, но что еще страшней — много лютых людей. Зверь помилует, побоится тронуть, а человека не возьмешь страхом или мольбой. Не тронутся слезами окаменелые сердца, ш бердыш с размаху размозжит голову.
Вероятно, это хорошо знал путник, пробиравшийся по просеке на бойком аргамаке. Он держал наготове копье, жало которого серебром светилось при проблеске месяца.
На мгновенье луна вырвалась из-за облаков и озарила ехавшего.
Он молод. Ему лет тридцать, не больше;
Плечи широки, стан крепок. Для злых людей — он не легкая добыча: сможет постоять за себя.
Лицо, окаймленное темно-русой бородкой, красиво, но бледно и угрюмо.
Брови сдвинулись, а глаз-а вспыхивают недобрым огоньком.
Если бы встретился москвич, то без труда признал бы в ночном путнике богатого купца прозвищем Некомат Суровчанин.
Тот же встречный, конечно, подивился бы:
— Что ему здесь надобно?
Удивление москвича было бы тем более понятно, если мы поясним, что путь-просека вел ни более, ни менее как только к мельнице некоего Хапилы, пользовавшегося недоброй славой колдуна.
Чтобы объяснить читателю смысл путешествия Некомата, мы должны оставить его продолжать путь к колдовской мельнице, а сами вынуждены взглянуть на жизнь купца Суровчанина вообще и, главным образом, на те события, которые разыгрались в доме Некомата всего несколько дней тому назад.
Итак, забудем на время про его поездку и перенесемся в усадьбу, окруженную добрым тыном, за которым, куда глаз ни глянь, раскидывались поля и луга, окаймленные вдали темной полосой леса…
…Ясное осеннее утро.
Некомат стоит у окна и смотрит на окрестности.
Поля со щетиною сжатой ржи, луга с сильно поднявшейся отавой. Дальше лес с темными пятнами хвои и желтыми и красными набросками отживающей листвы.
Вились думы:
— Ишь, земли! Глазом не охватишь. Тут тебе и луга, и поля, и бор… Бо-о-гатство! Сена к Петрову дню что накашиваем! А хлеба сбираем, а овса… Уйма! Да еще старания, какого нужно, не приложено. А постараться, — приглядеть здесь-там, пораньше встать, попозже лечь — огребай добро лопатами! Э-эх! Было бы мое, сумел бы постараться. А так, чужое-то обхаживать, кому охота? Честь-то все равно одна будет: пройдет мало времени — помелом погонит. Мне бы пока что хоть малую толику припрятать… Люди думают: Некомат гость богатый, большой торговый человек… Знали бы они, что я только пасынковым добром и дышу. Сполнится ему двадцать годов, все он и заберет. И останусь я чист молодец. Плохо распорядилась покойница, что говорить. Обидела меня. Его, говорит, отец наживал, так ему всем и володеть. А все толковала, бывало, «муженек любимый». Вот те и любимый.
Угрюмое лицо Суровчанина покрылось пятнами от желчного волнения. В тусклых, впалых глазах сверкнули злые искорки. Он нервно бороду дернул и отошел от окна.
— Грехи одни! — пробормотал он, прохаживаясь. — Кабы отделаться от этого царнишки. А-ах кабы!
Тихо стукнули в дверь светлицы.
— Кто там? — спросил Некомат.
В дверь выставилась кудлатая седая голова.
— Что тебе, Пахомыч?
В комнату бочком пролез приземистый старик с обезьяньим лицом, испещренным морщинами, и юркими лукавыми глазами, полуприкрытыми клоками седых бровей.
— Я к твоей милости, — проговорил Пахомыч.
— А что?
— Силушки нет сладить с пасынком твоим. Помилуй, совсем заморил он Чалого.
— Этакого коня?!
— Пропала лошадь. Вхожу сейчас в конюшню, гляжу — сена не ест и сама дрожит. На ней теперь разве впору воду возить да и то годится ль!
— Любимый мой жеребчик. Растил его, холил красавца, вскормил — и вот! И как Андрюшке помогло такого коня зарезать?
— Вчерась оседлать приказал и поехал. Знамо дело, от безделья скука берет. Сам знаешь, какая вчерашний день погода была — дождик, буря, не приведи Бог. А ему, вишь, дома не сидится. С утра до вечера это он по полям шаркал. Конь не поен, не кормлен, ну и заморил. Как он вернулся, я так и ахнул: мыло с коня так клочьями и сыпется что снег. Тогда же подумал я: ой зарезал коня.
Суровчанин присел на лавке, тяжело дышал и покачивал головой.
— Вот тебе и Чалый. А конек-то был!
— Уходил, уходил его, что и толковать. Сегодня я ему говорю: Андрей Алексеич! Зарезал ведь ты коня. А он меня же винит: ты, говорит, что смотрел? Верно, грит, опоили его. И знаешь, господине, уж ты меня прости, не в гнев твоей милости будь сказано, а сдается мне, что он тебе назло извел коня: знает — твой любимый.
— Может быть и очень может быть. От него уваженья не дождаться, а этакого чего-нибудь, чтобы назло, сколько хошь. Уж паренек! Вот он где у меня!
Некомат указал на свою шею.
— Испытанье, тебе Господом посланное, — сказал Пахомыч, сочувственно вздохнув, и продолжал: — потому думаю, что он назло тебе сделал, потому… Ведь ни ты, ни я, ни другой кто не поедет по доброй воле в этакую непогодь, как вчерась. А его понесло. И зачем? Даром коня гонять. Один- одинешенек поехал и воров-душегубов не побоялся… А ноне у нас их страсть развелось: намедни Трифоновского ключника среди бела дня зарезали, только малость от дома отошел. Дивно, как Андрей Лексеича не полоснули.
— Кабы полоснули! — пробурчал Суровчанин так, что ключник мог и не слышать.
Но он слышал. Весь как-то дернулся, подался вперед и тихонько промолвил:
— Управились бы с ним воры — благодать бы была.
— Н-ну, — промычал Некомат, смущенно глянув в сторону.
— Нет, в сам деле, — зашептал старик, еще ближе пододвинувшись к нему. — Оно, конечно, грех желать такое. Но от слова ничего ему не сделается. А только как не сказать, что легче стало бы без него.
Суровчанин не останавливал холопа и нервно щипал бороду.
— То взять, — продолжал шептать ключник, — что вот теперь ты всем володеешь, а малость времени пройдет, — приберет все к своим рукам Андрей Лексеич. Мы, рабы, попадем в его лапы, а тебя, — ты не осерчай на меня, — может, из дома погонит.
— От него дождешься.
— Чего от него не дождаться? Всего ждать можно. Меня он со свету сживет, уж это — как пить дать. Он меня страсть не любит. Беда всем будет…
Старик замолчал. Юркие глаза его так и бегали.
— Тяжело, — со вздохом промолвил Некомат.
— Легко ли!
— А поделать ничего нельзя.
Пахомыч наклонился к самому уху купца и прошептал:
— Кабы греха не бояться, то можно бы…
— Отыди, сатана! — вскричал Суровчанин, покраснев.
Поднялся с лавки и зашагал по комнате.
Старик отскочил к двери и забормотал с покорным видом:
— Ведь я не говорю, чтобы беспременно. Я сказал, коли не бояться греха. А мы, вестимо, хрестьяне православные, мы греха боимся. Я так к слову, тоись… А ты меня сейчас уж и сатаной.
Некомат ходил, опустив голову. Лицо его словно потемнело. В глазах выражались тревога и злоба.
Вдруг он круто остановился перед Пахомычем и спросил:
— Ну, а… ну, а как было бы можно?
Ключник встрепенулся.
— Как? Придумать недолго. Кликни — руки найдутся… На воров-душегубов свалим, — прошептал он.
— Где найдешь? — напряженно шептал купец. — Да после эти же руки, может, и к нашему горлу потянутся?
— Не посмеют потянуться. Устроим. У меня, сказать правду, на примете есть.
— Будто?
В это время в сенях послышались быстрые шаги. Дверь распахнулась, и на пороге появился юноша лет девятнадцати, высокий, голубоглазый, краснощекий. Его плечи еще не вполне развились, но, по-видимому, он обещал стать богатырем. На мощной шее сидела красивая голова в целом венке кудрявых белокурых волос.
Это был пасынок Суровчанина, владелец усадьбы и земель, Андрей Алексеевич Кореев.
Увидев его, Некомат угрюмо спросил:
— Что, Чалого-то загнал?
— Я загнал Чалого? Когда мне было его загнать? Конь, правда, теперь вконец испорчен, да только оттого, что его опоили, — ответил пасынок.


























