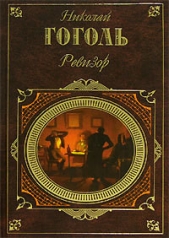Совесть. Гоголь
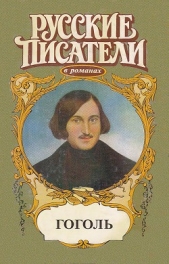
Совесть. Гоголь читать книгу онлайн
Более ста лет литературоведы не могут дать полную и точную характеристику личности и творчества великого русского художника снова Н. В. Гоголя.
Роман ярославского писателя Валерия Есенкова во многом восполняет этот пробел, убедительно рисуя духовный мир одного из самых загадочных наших классиков.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Щепкин потёр руки и рассмеялся непринуждённо и весело:
— Вот это ж да! Вот и прекрасно! Я возвещу всем актёрам! Я всех к тебе притащу!
Он досадовал сильно, что сгоряча наобещал это чтенье и что хитрый Щепкин изворотился не принять эту роль на себя, точно не слышал его. Работать необходимейше, слышался голос, работать после этого столкновения с молодым человеком много яростней, чем всегда. Возродить нашу землю своими руками, не то побоку всё — да это же нынче самый наидостойный предмет, простор и страсть для пера, и он согласился как-то ласково, однако спотыкаясь и пряча глаза;
— Что ж, приводи как-нибудь, а куда бы лучше повременить. Всего «Ревизора» нужно бы, пообчистив хорошенько, дать в виде совершенно другом, чем он на театре нынче даётся. Теперь же на него противно и гадко глядеть, да и артисты такую состряпали из него тривиальность, что, я думаю, нет человека, которому бы приятно было на него поглядеть. Только никому обо всём этом не сказывайте, покуда не условимся окончательно, в какой день, то да се. У вас язык несколько длинноват, вы на этот раз поукоротите его. Если он начнёт уже слишком почёсываться, то вы придите ко мне в другой раз и об этом деле поговорите со мной как будто о самом новом и свежем. Это должно вам очень помочь, я это предвижу. — И оборотился к Тургеневу: — Приходите и вы.
Тургенев с благодарностью поклонился и начал вставать.
Он хотел было остановить из приличия, только тут всунулась в дверь одна старая барыня; привезла просфору от Иверской.
Он так и кинулся к ней, страшась в пылу да в жару наобещать ещё что-нибудь, склонился, неловко целуя морщинистую дряблую руку.
Тургенев поднялся, раскланялся молча и вышел за дверь своими непомерно большими шагами.
Щепкин, подступив несколько сбоку, пожал ему руку и пустился перебирать коротковатыми ножками, едва поспевая за молодым человеком, топавшим уже где-то в сенях.
Через минуту старая барыня посеменила им вслед.
Он слёг в постель, как больной, и не поднимался в тот день до самого вечера.
Однако к вечеру слабость прошла.
Точно ужаленный, встряхнутый и подвигнутый неведомой силой, он собрал все ресурсы души и в три месяца окончил «Мёртвые души», вторую часть, вернее сказать.
И вот решился уничтожить свой труд.
Николай Васильевич ощутил, как обхватывает его сильным жаром, давно тянувшимся от весело растопившейся печки, поворотился в каком-то забвении, всё ещё в чаду воспоминаний, и прислонился к розовым кафелям зябкой спиной.
Тут ему стало спокойней, теплей. От печного жара наползала блаженная слабость. Немного дремалось. Мысль о том, что в той же печи уничтожит он «Мёртвые души», по какой-то непонятной причине уже не страшила его. В этой мысли не заслышалось ни зловещей тревоги, которую он наконец одолел, ни блаженного облегчения, которого он ожидал, и вдруг, уже точно сквозь сон, угадалось, что все эти сомненья, все колебанья, которые так основательно, жутко сокрушали его в последние дни, были связаны с чем-то иным, а вовсе не с тем, что он в другой раз назначил «Мёртвые души» в огонь. Пусть горят!
О чём говорить, тяжко уничтожать своими руками свой труд, да для него самого ещё в том ни малейшей опасности не слыхать.
А вот как бы не сделалось после того...
Именно, что же с автором станется... когда он...
А о том, какие приключения ждут после того, как испепелятся «Мёртвые души», он и не подумал ещё. Безотчётно, без размышлений как-то верилось твёрдо само собой, что и потом продолжится то же, что было, то есть станет работать, как прежде, во всю свою жизнь, может быть, потому, что без труда для него и самой жизни быть не могло.
Однако теперь...
Он вновь пожалел, что с ним нет никого, с кем бы совместно обдумалось то, на что он решался да всё не решился никак. Всю свою жизнь он нуждался в таком человеке. Странно сказать, такого человека рядом с собой он всё ещё ожидал. Он ждал с тех далёких уже школьных лет, когда первые испытанья впервые коснулись его.
Коснулись, но не сломили...
Отчего ж не сломили?..
Оттого, может быть, что внезапно явился такой человек, Белоусов [58], профессор, естественное право читал, Николаем Григорьевичем звать. Без того человека, должно быть, он давно бы превратился в свинью и дотянулся бы до действительных статских советников, для которых на всех станциях всегда лошади есть, что вполне прилично свинье.
Его потянуло в сторону шкафа.
Николай Васильевич вперил в застеклённые дверцы взгляд, однако отогнал от себя искушенье: уж так не ко времени приключилось оно.
Вот спину хорошо подпекало, это славная вещь. Он дал погреться и правому боку и тут без всякого удивленья увидел, что Николай Григорьевич стоит перед ним, склонившись вперёд, раскинув руки по кафедре, как он сам по конторке раскидывал их, когда подступала и была в готовности народиться зрелая мысль, и вдруг заслышал призывавшие на подвиг реченья.
Николай Васильевич склонил голову несколько набок, странно поёжился, точно стыдился себя, нерешительно потоптался на месте, почесал в голове, бросил во все стороны виноватые взоры, словно от каждой стены тысячи недружеских глаз неотступно следили за ним, и почти бегом пробежал от печки до самого шкафа, беззвучно вставил в скважину крохотный ключик, слегка повернул, оглянулся, тихонько извлёк с нижней полки побитый дорогами старый портфель, присел осторожно к столу, покрытому зелёным сукном, выложил связку бесценных тетрадей, оглядел их с любовью и жалостью, распустил бечеву, которой они были перетянуты аккуратно крест-накрест, снял потихоньку и бережно подержал на весу самую верхнюю, словно думал ещё, следует ли потакать искушению, опустил перед собой на пустынную зелёную гладь, обеими руками, за верхний и нижний углы, перевернул несколько как-то особенно, точно радостно шелестящих страниц, страшась сделать больно, помять, загнуть или, упаси Бог, надорвать где-нибудь своими неловкими пальцами, и стал читать медленно, с остановками, то и дело возвращаясь назад, как давно привык читать всё, что ни выросло из-под пера у него:
«Двенадцатилетний мальчик, остроумный, полузадумчивого свойства, полуболезненный, попал он в учебное заведение, которого начальником на ту пору был человек необыкновенный. Идол юношей, диво воспитателей, несравненный Александр Петрович одарён был чутьём слышать природу человека. Как знал он свойства русского человека! Как знал он детей! Как умел двигать! Толпа его воспитанников с виду казалась так шаловлива, развязна и жива, что можно было принять её за беспорядочную необузданную вольницу. Но он обманулся бы: власть одного слишком была слышна в этой вольнице. Не было шалуна, который, сделавши шалость, не пришёл к нему сам и не повинился во всём. Этого мало. Он получал строгий выговор, но уходил от него не повесивши нос, а подняв его. И было что-то ободрящее, что-то говорившее: «Вперёд! Поднимайся скорее на ноги, несмотря что упал...»
Николай Васильевич внезапно споткнулся, наморщился, выпрямился, опуская тетрадь на крышку стола. Шелковистые брови разом сдвинулись в одну суровую линию. Мягкий рот распустился презрительно, выставляя наружу нехорошие мелкие зубы. Стало неприязненным и холодным лицо.
Что-то неладное, неоднородное и как будто фальшивое уловил его истончившийся, беспощадно чувствительный слух в обработанном, двадцать раз передуманном и переписанном отрывке поэмы.
Он с силой дёрнул свой длинный заострённый нос, раздумался страшно и наконец произнёс, растянув издевательски слово:
— Ну, на-ца-ра-пал...
Отворотившись, кусая губы, весь сжавшись, поглядел безучастно в окно, за которым насупилось низкое небо.
Отрывок важный, отрывок известный, давным-давно представлялся ему завершённым, отточенным навсегда, как отточен какой-нибудь старинный барельеф, где всякая черта глубоко проникла в гранит, выставив выпукло, резко фигуру, так что сама собой ложится в сознание и ещё долго маячит во всей своей полноте перед мысленным взором, чем-то неизъяснимым сильно тревожа его.