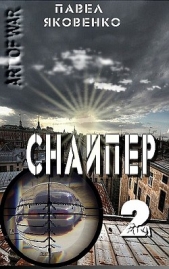Харбинские мотыльки
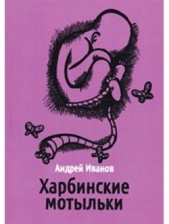
Харбинские мотыльки читать книгу онлайн
Харбинские мотыльки — это 20 лет жизни художника Бориса Реброва, который вместе с армией Юденича семнадцатилетним юношей покидает Россию. По пути в Ревель он теряет семью, пытается найти себя в чужой стране, работает в фотоателье, ведет дневник, пишет картины и незаметно оказывается вовлеченным в деятельность русской фашистской партии.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Иван и Тимофей приехали к Реброву смотреть посылку. Борис не стал покупать перронный, ждал в зале. Всклокоченный Каблуков со своей повязкой был страшен, как бандит. Но страшнее всего были их ботинки. Они были так сбиты, точно по ним били камнем, чтобы превратить в лепешки.
— Ну, что? — спросил Ребров вместо приветствия. — Как добрались?
— С горем пополам, — ответил Иван, выглядел он сильно помятым, бледным, утомленным. — Было много остановок, досмотр, крутили-вертели, — жестикулировал он тоже порывисто, — на фотокарточки смотрели. А там я с глазом еще. Стали проверять. Пришлось повязку снимать. Указали на это. Тыкали пальцем то в лицо, то в паспорт. Вопросы задавали. Пришлось объяснять…
— Понимаю, остановитесь у меня. Я устрою… Фотокарточку, хотите сделаю? Ничего стоить не будет.
Иван замялся, Тимофей его опередил:
— Спасибо, Борис Александрович, вы нас здорово выручите.
— Спорить много не будете? — сказал Иван. — Я устал, слаб после болезни.
— Не буду, обещаю. Идемте!
Пошли. Поскорее с вокзала: люди смотрят.
— Как чувствуете себя?
— Лучше, — сказал Иван.
— А ты как? — спросил он Тимофея.
— Слава Богу, Борис Александрович, спасибо! Можно вас спросить, стихи мои читали?
— Да, Тимофей, отличные!
— Спасибо вам! Спасибо…
Но тут резко влез Каблуков:
— Однако и весело тоже было в поезде. Встретили фашистку, совсем неожиданно, а, Тимка?
Тимофей поддакнул, улыбнулся.
— Едем, смотрим — сидит, читает «Наш путь»! Откуда, спрашивается? Она: передали… и оказывается, чуть ли не через пятые руки! Читают люди, читают! Она сказала, что это получше «Искры» [74]… ругала «Искру»… Живет на отшибе у эстонца на мельнице, света божьего не видит, в церковь вот, говорит, вырвалась, да на кладбище могилки стариков прибрать. Так вот глухо живет русский эмигрант! Мы ей пообещали только появившийся «Клич», нам из Финляндии прислали, и книгу Горячкина про Столыпина — такого она еще не читала! Видите, мне и не надо тянуть за собой, люди сами тянутся.
— У меня есть что вам сказать на это, — ответил Ребров сухо, — да только не стану — обещал: не спорить.
— Потом… потом поспорите…
Пришли.
— Ну, показывайте! — От нетерпения Иван чесал ладони.
Борис открыл чулан.
— Пожалуйста!
— Ох, ты! — воскликнул Иван. — Здоровенный, как гроб! — кулаком по нему стукнул, скинул пальтишко, согнулся пополам, рыкнул и потянул: ящик шел со скрипом. Кряхтение Ивана и скрип по полу ящика слились в жуткий нечеловеческий стон.
— И как вы его притащили? — удивился Тимофей.
— Доставили, пришлось уплатить, — сказал Ребров. — У нас есть знакомый конюх, возит нам, недорого берет…
— А, понятно, это возместим, — сказал Иван, вскрывая гроб (вылетела пыль). — Только не сейчас… Сейчас никак не можем заплатить…
— Борис Александрович, у нас совсем плохо с деньгами…
— Ну, что ж, — развел руками художник, — потом как-нибудь…
Иван извлекал пачки газет, похлопывал их, как младенцев, приговаривал что-то. Лиловая пыль распространилась по комнате…
Несколько месяцев к Борису ходили люди, спрашивали «новости с Востока»; он выдавал листки, которые Иван указал: «эти можно выдавать», — газеты увез. Борис не успел ничего возразить, он и не понял, что значит «можно выдавать», стал понимать, когда началось хождение к нему молчаливых, вытянутых до болезненности личностей, которые ждали каких-нибудь «особенных вестей» из Харбина; он давал им листочки, они были недовольны, требовали каких-то брошюр, газет.
— Велено это давать, — сухо отвечал он, замечал в них недоверие и злился, говорил еще жестче: пусть обидятся и совсем не приходят! Но они шли и шли; скоро листки кончились, но они все равно приходили, он говорил, что нет ничего больше, они спрашивали:
— Когда будут?
Он говорил, что больше не будет.
— От меня больше не будет, — уточнял Ребров. — Сюда не приходите.
Они зло смотрели на него: волчий прикус сменялся на ехидную ухмылку, наглую, как у шпаны, — уходили… но крутились возле дома. Кунстник долго ждал, что нагрянут с обыском, но обошлось.
Лето промелькнуло как поезд: Tallinn — Tartu, Tartu — Tallinn. Омытый дождями. Все лето на деревянной скамеечке. Быстро вызубрил ландшафт. Ярко и душно. Мухи, комары. Дождь так и не намочил: налетал, пока был в поезде. Они все еще зовут его — Юрьев. У Веры Аркадьевны все пропиталось жасмином, лавандовой водой, чайной розой — запахи старости. Хорошо от реки веет. Приятно, успокаивающе плещет. Как на каком-нибудь острове в Санкт-Петербурге, да, именно так: как на островке. И Вера Аркадьевна — как с ней спокойно! Как с теткой!
Варенька сказала: «Это потому что в ней Бог», — и она тоже в этом РСХД, все там.
В начале осени все как-то опять резко сузилось. Странное чувство. Будто огонек внутри гаснет. Было око все лето распахнутым, как зонтик, а пришел сентябрь, и оно закрылось. (Может, с заболеванием моим связано.)
Странный день был в конце сентября, улыбающийся, как старик, тихий, с проблеском забытого: люди, их речь, неспешность, с которой говорили, — всё это отливало чем-то из далекого прошлого. Приехал, один прошелся по всему городу, никого не искал, никого не встретил, гулял, а потом до реки дошел и стало совсем спокойно. Стою, вода движется. Как после тифа, подумалось неожиданно, — и точно ведь!
Я тогда воспринял смерть всех совсем спокойно, как должное, и когда барон наклонился мне сказать, что я один остался, я уже знал: по тому, как доктор смотрел? как шептались вокруг? Не знаю как, но знал. Чувствовать и плакать потом стал, когда силы пришли, а неделю после тифа не мог и плакать. Все это можно объяснить истощенностью организма. Но это спокойствие, с которым я вышел к реке, не объяснишь слабостью. Я был так спокоен, что мне даже стало страшно — тем притупленным страхом, когда уже не можешь противостоять. Неизбежность. В этом спокойствии было ощущение неминуемого. И когда я увидел бревно в воде, похожее на утопленника, я даже вздохнул с облегчением, но когда понял, что не утопленник, а всего-то бревно, подумал: быть утопленнику. В этом было что-то фатальное.
Вера Аркадьевна долго говорила о Тимофее. Интонации у нее были совсем материнские. Сказала, что он болеет, что она переживает за него и т. д., и т. п. Я успокоился только тогда, когда пришли Ольга и Варенька, и при них Вера Аркадьевна говорила о детишках с теми же интонациями, что и о нем, хотя он давно не ребенок. Вечером доктор Фогель зашел, все вместе пили ликер с кофе, и д-р тоже говорил о Тимофее дольше, чем говорят в таких случаях. Молниеносным росчерком осенило, что меня сюда выманили затем, чтоб я занялся Тимофеем. Ужасно глупо. En plus [75]: до того я был втайне убежден, что В.А. меня приглашала ради своей сестрицы (а может, все вместе?); да, почему бы им меня не женить и тут же опекуном к нему не приставить? Они тут так опекают друг друга! Все добрые! Все благородные! И меня по своим правилам хотят переделать: чтоб я в благородство с ними играть начал. Дудки! Благородный порыв, не обусловленный общинными нормами, я принимаю, но как только человек с добром к вам лезет, потому как в обществе это считается добром, тут я на дыбы встаю. Добро только там добро, когда само из тебя рвется, и ты ничего поделать с собой не можешь. Уж лучше прослыть циником, чем добрым. Я насмотрелся на эти балы! До сих пор стыдно в город выйти — всюду стоят с подписными листами и бантами, улыбаются… и под каждым Библия, как плита! Вот на чем вся эта благотворительность держится: каждый трусит, Бога боится, боится настоящим быть.
Смерть писательницы они приняли как всеобщую вину, и сына ее теперь хотят запоздалой заботой всячески окружить.