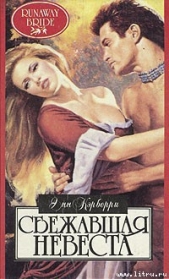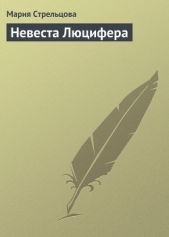Невеста императора
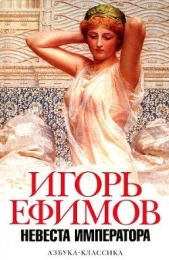
Невеста императора читать книгу онлайн
На страницах романа Игоря Ефимова (автора книг «Седьмая жена», «Неверная», «Суд да дело», «Архивы Страшного суда» и др.) «Невеста императора» оживают события и лица, которые относятся к периоду заката Римской империи, с его кровавой борьбой за власть, изменой и предательством, предвещающими гибель большого государства. Скрупулезно воссоздавая историческую канву этого переломного времени, автор делает акцент на духовных исканиях эпохи и помещает в центр действия фигуру хрониста Альбина Паулинуса, по крупицам собирающего материалы о своем учителе и наставнике — христианском монахе и мыслителе Пелагии Британце, чьи проповеди были объявлены ересью и подверглись церковному запрету. Наряду с философскими спорами об инакомыслии, толковании Библии, роли Церкви, возможности человека самостоятельно выбирать собственную судьбу в романе развивается лирическая линия прекрасной гречанки Афепаис, былой возлюбленной Альбия Паулинуса, которая в финале становится повелительницей Восточной Римской империи Евдокией, вместе с августейшим титулом принявшей христианство…
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Эти спорящие голоса наполняли мою душу каким-то безнадежным раздором и унынием. Мне даже не с кем было поделиться своими тревогами. Все друзья из кружка Пелагия оставались в Риме. Сам Пелагий не спешил возвращаться в Италию.
Правда, в конце года я получил от него большое письмо из Карфагена. В нем он подробно описывал войну между католиками и донатистами и попытки римского посланника Марцеллинуса усадить их за мирные переговоры. Казалось бы, попытки эти в какой-то момент увенчались успехом. В июне месяце враги согласились устроить совместный собор.
Пелагий описывал то, что он видел своими глазами. Епископы донатистов и епископы католиков выстроились друг против друга на жаре и по очереди обвиняли своих преследователей и мучителей из противного ряда.
«Вот там стоит Флорентиус. Он должен помнить меня — не он ли держал меня в тюрьме с крысами и змеями четыре года?.. И наверняка казнил бы, если бы Господь не простер надо мной свою руку…»
«Пусть скажет Петилиан: не он ли натравил фанатиков сжечь мою церковь и кидать негашеную известь в глаза моим прихожанам?..»
Римский посланник выслушал все обвинения, выслушал богословские споры и через несколько дней вынес свое решение: объявил донатистов еретиками и лишил их права иметь свои церкви и своих епископов. Всякий человек, который в течение двух месяцев не станет правоверным католиком, облагался тяжелейшим налогом.
И что тут началось! Донатисты, верящие в спасение через мученичество, во всех городах Африки кинулись к комендантам и префектам, прося немедленно казнить их, чтобы они могли поскорее оказаться в раю. Властям приходилось вызывать городские когорты, чтобы разогнать беснующиеся толпы. Но тогда многие кидались в огонь или топили себя в море.
Пелагий тоже считал донатизм опаснейшим заблуждением и пытался бороться с ним проповедью. Но не меньше возмущало его злорадное равнодушие, с которым победившие католики смотрели на страдания и гибель своих противников. «Видимо, Господь, в непостижимой мудрости Своей, — говорили они с лицемерными вздохами, — еще до рождения предопределил этих несчастных к такой судьбе».
Две волны фанатизма накатывали друг на друга, и, конечно, Пелагий не мог присоединиться ни к той, ни к другой. Он писал, что при первой же возможности постарается уехать из Африки в Святую Землю.
Я тоже иногда мечтал уехать куда-то, где можно было бы залечить душевный разлад. Но куда? Ведь не тюремные стены удерживали меня в неволе, а три самые дорогие сердечные привязанности: к ребенку, к жене, к Богу. Стоило мне дать волю своей любви к одному из трех, я чувствовал, как этим обделяю двух других.
Сколько раз вспоминал я грозные слова Христа: «Враги человека — домашние его».
Сколько раз ловил себя на самом краю и удерживал от вспышки слепого бешенства.
Сколько раз повторял простые строчки из катоновских двустиший:
Сколько раз задумывался о завидной судьбе отшельника в пустыне, о цельности его сердца.
Но вот внезапно смех Секундуса залетал со двора в открытую дверь дома.
Или Клавдия спускалась навстречу мне по лестнице, с узлом белья на голове, и мимолетно опиралась ладонью на мое плечо.
Или вечерний луч солнца падал на алтарь в опустевшей церкви и отражался в душе вспышкой необъяснимой радости.
И тогда я думал: а не в том ли и состоит наша свобода, чтобы добровольно терпеть боль, разрывающую нам сердце? Не этой ли болью испытывает нас Даритель свободы? Не будет ли самым большим предательством — попытаться увернуться от этой боли, пусть даже укрывшись от нее в пещере святости и воздержания?
(Юлиан Экланумский умолкает на время)
Вчера пришло письмо от моего друга из Антиохии. (Имя его опускаю — таков долг дружбы в наши опасные времена.) Он сообщал, что императрица Евдокия со своей свитой наконец достигла их города. Вся городская знать и магистраты и священники отправились встречать ее корабль в порту Селеуции. Мой друг тоже был там и слышал, как лучший городской ритор, ученик знаменитого Либания, восхвалял венценосную паломницу в торжественной речи.
Конечно, оратор употреблял все титулы, которые требовалось произносить при обращении к императрице: «Слава пурпура, Радость мира, Христолюбивая базилисса, Счастливейшая и набожная августа». Но от себя он также назвал ее Покровительницей знающих и думающих, и это обращение вызвало приветствие слушателей. Ибо все знали, какое большое участие императрица приняла в создании Университета в Константинополе, впервые соединившего преподавание христианской теологии и греческой философии.
Мне говорили, что сегодня тринадцать лучших профессоров преподают там латинскую литературу, шестнадцать — греческую. «Даже если допустить, что ритор, произносивший речь, хотел быть включенным в список кандидатов на профессорскую должность, — писал мой ироничный друг, — его благодарный восторг звучал искренне и вызвал горячий энтузиазм собравшихся».
У меня же письмо друга вызвало такое волнение, что наутро оно проявилось странным и постыдным образом, и я вынужден был послать Бласта в долину, к знакомому владельцу ткацкой мастерской, у которого мы время от времени одалживали рабыню-портниху. Конечно, ткач прекрасно знал, что портниха занималась у нас не только шитьем одежды. Но он был доволен платой и не возражал.
Еще в далеком детстве, когда это впервые случилось со мной, и я, испуганный, прибежал к Гигине в слезах, с воплем «оно твердое и болит!», я был уверен, что со мной случилось что-то такое, от чего можно умереть. Опытная Гигина начала успокаивать меня, уверять, что болезнь эта не страшная, что случается она у всех мальчиков, что это просто маленький дракон выползает из своей пещеры. Больше всего он боится крепких поцелуев. Она тут же стала сильно целовать больное место, и вскоре болезнь покинула меня, пронзив на прощанье все тело сладостной дрожью. Но все равно было такое чувство, будто я немножечко умер. И облегчение. И благодарность. А потом — долгая грусть.
Так это и осталось с тех пор.
Даже теперь, с флегматичной и толстой рабыней из Каппадокии, которая каждый раз выглядит немного удивленной тем волнением, которое производит в господине столь простое занятие, все идет в той же неизменной последовательности.
Нарастающий испуг.
Счастье и облегчение.
Отголосок смерти.
Море благодарности.
Океан грусти.
Но чего больше нет — нет стыда. Было время, когда я казнил себя за греховную слабость, бунтовал против собственной плоти, постился, молился, давал обеты, нарушал их и сокрушенно давал новые. Я искал поддержки в писаниях святых отцов и отшельников, я верил им и хотел следовать за ними, даже за яростным Иеронимом Вифлеемским. Для Иеронима не только одинокие жертвы вожделения, но и женатые пары были людьми второго сорта по сравнению с целомудренными постниками и непорочными девственницами. Вторичный брак он приравнивал к жизни в борделе. Женатый священник — позорное пятно на теле Церкви Христовой.
Но странное дело — чем больше я читал его страстные нападки на тюрьму плоти, которая держит душу в неволе, не пускает ее к Богу, тем меньше верил ему. Иероним был похож на узника, так долго колотившего кулаками по стенам своей темницы, что он уже не может оставить это занятие, даже если перед ним распахнут дверь. Жизнь его отдана одной цели — сокрушению ненавистных стен. Даже выпущенный наружу, он остается привязанным к стенам темницы. Ему никуда не уйти от них. Он хочет, чтобы и все другие люди оставили свои пустые дела и присоединились к нему в священном разрушительстве. И да будут прокляты те, кто ощущает свое тело не тюрьмой души, а домом!
Бунт назревал во мне и прорвался довольно рано, лет в шестнадцать, когда я плыл в Святую Землю.