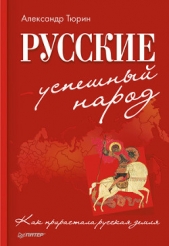Несокрушимые

Несокрушимые читать книгу онлайн
Новый роман известного петербургского писателя Игоря Лощилова посвящён двум наиболее героическим и самоотверженным событиям Смутного времени на Руси — осаде Смоленска и обороне Троице-Сергиевой лавры 1609—1610 гг.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
С появлением травы осаждающие стали выгонять скот на пастбища. В лавре смотрели голодными глазами на скотину, заполнившую окрестные поля, и думали, как бы заставить воров поделиться с ними. Наконец придумали сделать вылазку на Княжее поле, где на сторожке стояли казаки. Стражники это были плохие, люди разбойного склада вообще тяготятся монотонной работой, пили горилку, горланили песни, устраивали игрища со скачками, однако и у таких из-под носа не уведёшь. В рисковом деле всегда первый Ананий Селевин: уведу, сказал, только помощника дайте. Тут и вспомнили про Матьяша.
Среди бела дня Ананий выехал из крепости и поскакал к Княжьему полю. Скотина с раздутыми боками лениво жевала траву, казаки, сморённые жарким солнцем, спали мёртвым послеобеденным сном. Анания заметили в самый последний момент и дали предупредительный выстрел. Он не стал ждать, пока стражники очнутся от сонной одури, одного поддел копьём, другого рубанул саблей, третьего придавил конём. Затем подскочил к палатке, где почивал сотник, завалил её, позволил Воронку поплясать на ней и поскакал к лесу. Казаков как ветром сдуло, бросились в погоню, с криками, со свистом. Ананию только того и надо, чтобы их с поля увести. Воронок полетел стрелой, оторваться от казацких лошадок ему ничего не стоило, и он стал пошаливать: то сбавит ход, то припустит. Ананий отпустил поводья — пусть играется. А в это время вышедший вслед за ним Мать-яга, вспомнив про знакомый промысел, сбил в кучу с полсотни голов и погнал их к Конюшенным воротам. Пастухи не смели мешать, зарылись в траву, только гузна выставили.
В тот вечер лавра ужинала по-праздничному. Особенное веселье происходило в княжеских хоромах. Долгорукий, осоловевший от еды и питья, выказывал мадьяру большую приязнь, а когда тот запел удалую песню, бросился в пляс. Голохвастов смотрел и удивлялся, никогда ещё не видел князя в таком задоре. Но самое удивительное случилось позже, когда Матьяш, расслабленный обильной пищей и вином, затянул протяжную мадьярскую песню. Его высокий и сильный голос будто раздвигал стены палаты, рвался на простор, и не знающим слов слушателям ясно виделась бескрайняя степь, покрытая весенними цветами, и промытое обильными дождями синее небо. Они ощущали пронзительную свежесть раннего утра и вдыхали необыкновенной чистоты воздух, напоенный живительными силами земли. Долгорукий слушал как зачарованный, слёзы катились из его глаз, он их не стеснялся и не оттирал, а когда песня закончилась, воскликнул:
— Ох, парень, ты настоящий чародей! Так растревожил меня своими песнями, что будто десять годков скинул, — и, запустив широкую лапищу в волосы Матьяша, прижал его голову к своей груди.
Вот какая случилась у них любовь.
Мадьяр и вправду оказался чем-то вроде чародея, его знания и умение выходили за рамки навыков обычного трубача. Он ловко управлялся с саблей и беспощадно разил бывших соратников в многократных вылазках; показал неплохие навыки в пушкарском деле: попал из крепостной пушки во вражескую тарасу и завалил её; знал толк в лекарском деле: умел останавливать кровь и ловко перевязывать раны; и что самое удивительное — мог безошибочно предсказывать погоду. Словом, вскоре сделался для князя совершенно незаменимым человеком, тот стал к нему всё чаще обращаться за советами, не отпускал от себя ни на шаг, даже определил место для ночлега в соседней палате.
Ян Сапега встречал свою сороковую весну, она не обещала быть особенно радостной. Из Тушина только что пришла грамота. Перечислив с утомительной подробностью свои несуществующие титулы, парик благодарил его на присылку двух перехваченных гонцов, вёзших письма от Скопина в Москву, и выражал надежду, что «ваша благосклонность окажет нам наивозможнейшую помощь в противостоянии надвигающейся угрозе с севера». Гетман пренебрежительно отбросил послание — этот фигляр не должен рассчитывать на «нашу благосклонность». Уйти из-под монастыря просто так, напрасно простояв восемь месяцев под его стенами, значит расписаться в собственном бессилии и навсегда покрыть позором своё имя. И что его в таком случае ожидает? Стать вровень с многочисленными воеводишками, вроде наглого и бездарного Зборовского, или, того хуже, поступить в подчинение молокососа Рожинского, чтобы умножать его ратную славу? Покорно благодарю! Довольно того, что он держит в повиновении всю северо-восточную Русь, расходуя на то большую часть своего войска. Иначе жалкое пристанище чёрных воронов уже давно было бы взято.
Нужно, пожалуй, ещё раз обратиться к этим упрямым олухам в монастыре. По всем прикидкам, там уже не должно остаться людей, способных воевать, из чего же им держаться? Он предложит лёгкие и почётные условия сдачи: пусть продолжают сидеть в своём курятнике, лишь бы вывели ратных людей и отвалили хоть малую толику на военные издержки — вот малость, которая позволит сохранить лицо обеим сторонам.
В крепость ушёл очередной ультиматум. Он содержал действительно мягкие требования, причём слово «сдача» вообще не употреблялась, речь шла о почётном «замирении». Но чтобы скрыть очевидную безысходность осаждающих, заканчивалось решительно и грозно:
«Аще и в этот раз не примете наше ласковое увещевание, то сделаем приступ, могучее прежних, не дадим пощады ни мирским, ни Божиим людям, ни старым, ни малым, накормим диких зверей трупьями вашими, а очи бессмысленны дадим чёрным воронам на склёв. И обитель, вами осквернённую, поровняем с землёй, чтоб следа не осталось. Так вы, твердолобцы, помыслите: аще своя жизнь не дорога, то о Божием доме порадейте».
В лавре прочитали и призадумались. Стали гадать, когда ожидать обещанного приступа и как ему противостоять? Первую загадку разрешил Матьяш: гетман, сказал он, любит делать себе подарки, именины у него как раз на Предтечу, 25 мая, тогда и крепость хочет получить. Другим отгадчиком оказался монах Нифоний. Бедный брат заболел водянкой, и без того грузный, он раздулся, наподобие пузыря, того и гляди, лопнет. Стал ходить тяжело и говорить с одышкой, однако нашёл в себе силы дойти до воевод и спросить, знают ли они, чего ляхи и воры боятся более всего? Долгорукий не стал голову ломать, отмахнулся, а Голохвастов угадал верно: боятся, сказал, кабы скраденное у них не отняли, недаром сказывают, что вор караульщиков стережёт.
— Верно, — подтвердил Нифоний, — ежели прознают, что на ихний обоз напали, никакая война им не с руки.
— Ты куда клонишь?
Нифоний с трудом примерялся, потом тяжело опустился на колени.
— Дозвольте, господа воеводы, последнюю службу сослужить. Проберусь в обоз, а как приступ зачнётся, подожгу его.
— Куда тебе, бедолага, дело непростое, здоровому не осилить.
— Бог поможет, всё лучше, чем вживе преть, хуже никак не будет...
Подумали воеводы, риска действительно никакого, но для того, чтобы дело в прямом смысле слова выгорело, к Нифонию приставили крепкого помощника — Анания Селевина, его даже спрашивать не стали, знали: если где опасное дело, он тут как тут.
Задумка эта при удаче наверняка способствовала бы отражению грядущего приступа, однако не следовало забывать и о проверенных средствах: стали выгребать остатки серы и извести, калить ядра и точить ножи. Малочисленных воинов, где только можно, заменяли женщины, в этот раз вся тяжесть по подготовке крепости легла на них. Мужчины участили вылазки в надежде доподлинно узнать о замышлениях панов. В их стане действительно наблюдалось необычайное оживление.
Накануне Вознесения летучий отряд воровских казаков словил на Дмитровской дороге двух чернецов. Один из них, большой и толстый, с трудом передвигал брёвнообразные ноги. Он объяснил, что идёт в лавру к колодцу с чудодейственной водой для исцеления от хвори. Второй был не охотник до разговоров, он угрюмо молчал и, судя по всему, более чем на роль провожатого не годился. Казаки не проявили большого интереса к странникам, но пропустить их к лавре отказались. Скоро, сказали, возьмём её, тогда и целитесь, ежели там что-нибудь останется. Среди них нашёлся только один не в меру подозрительный. Тощий и корявый, наподобие засохшей ветки, он несколько раз обошёл вокруг монаха, удивляясь его размерам, и, уже не доверяя своим глазам, стал ощупывать. Первые пробы ещё более усилили подозрения, кончилось тем, что он вынул саблю и вспорол монашескую рясу. Казаки не смогли сдержать удивлённых криков — безобразно раздувшаяся плоть монаха была завешена небольшими мешочками с порохом и серой. Напрасно уверял тот о лечебном назначении этого зелья, чернецов скрутили и повели в пыточную избу. Тот, который поменьше, оказался равнодушным к предстоящим пыткам и не прервал своего угрюмого молчания. Зато с толстяком дело устроилось быстро, после нескольких уколов ножом, он стал исходить жидкостью, а вместе с нею из него потекли слова признания. Он рассказал о своём намерении устроить пожар в обозе и тем самым сорвать приступ. Чернецов потащили к Сапеге.