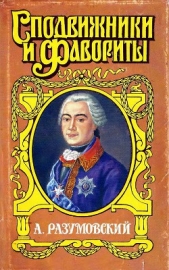При дворе императрицы Елизаветы Петровны

При дворе императрицы Елизаветы Петровны читать книгу онлайн
Немецкий писатель Оскар Мединг (1829—1903), известный в России под псевдонимом Георгий, Георг, Грегор Самаров, талантливый дипломат, мемуарист, журналист и учёный, оставил целую библиотеку исторических романов. В романе «При дворе императрицы Елизаветы Петровны», относящемся к «русскому циклу», наряду с авантюрными, зачастую неизвестными, эпизодами в царственных биографиях Елизаветы, Екатерины II, Петра III писатель попытался осмыслить XVIII век в судьбах России и прозреть её будущее значение в деле распутывания узлов, завязанных дипломатами блистательного века.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Часто голштинец встречал у сестёр Рейфенштейн графа Петра Шувалова, который тогда, с довольно холодным и надменным видом, приглашал его подробно сообщить ему обо всём виденном и слышанном, но резко обрывал своего собеседника, если тот обнаруживал склонность к излишним разглагольствованиям. Однако граф не оставлял его больше ужинать с обеими девицами, а ещё менее того думал предлагать ему партию в экарте, на что Брокдорф, истратившись на множество покупок, согласился бы очень охотно и даже позволил себе однажды слегка намекнуть. Напротив, едва барон успевал дать отчёт обо всём случившемся при малом дворе и ответить на различные заданные ему вопросы, как граф Пётр Иванович спешил отпустить его теперь таким повелительным взором, что тому не оставалось ничего иного, как смиренно удалиться с безмолвным поклоном.
Вдобавок и положение Брокдорфа при великокняжеском дворе не соответствовало тем высокомерным надеждам, которые он стал питать с первого же дня после принятия его на службу. Хотя великий князь неизменно выказывал приветливую сердечность и простоту в обращении с ним, как и с прочими голштинцами, своими подданными, однако взоры Петра Фёдоровича как будто всё больше с каждым днём направлялись или были направлены на комические стороны в наружности его нового камергера, и если тонкая, язвительная ирония, таившаяся в комплиментах великой княгини, оставалась непонятной довольно развитому себялюбию и самодовольству Брокдорфа, то он не мог ошибиться насчёт гораздо более резких замечаний великого князя, который часто разглядывал его с громким хохотом и сравнивал то с удодом из-за торчащего гребня парика, то с попугаем из-за пестроты костюма. Брокдорф всякий раз складывал при этом свой широкий рот в почтительную, подобострастную улыбку, но не мог удержать ядовитой злобы, сверкавшей в его маленьких проницательных глазках. Кроме того, ему никогда не удавалось вызвать великого князя на какой-нибудь серьёзный разговор о голштинских делах, так как тот резко отклонял все замечания Брокдорфа насчёт управления герцогством.
Барон фон Ревентлов, со своей стороны, наслаждался прелестью и приятностью своего нового положения также не без того, чтобы не натыкаться на острые, колючие шипы, которыми тем щедрее усажены все благоуханные розы человеческого существования, чем они прекраснее и милее. Привлекательная, благородная внешность, любезная скромность и многостороннее по тому времени образование молодого человека вскоре снискали ему расположение великокняжеского двора. Сам Пётр Фёдорович отличал его вниманием, как человека, состоявшего на действительной службе у прусского короля. Он поручил ему обучить военным приёмам по прусскому образцу всех своих пятерых или шестерых лакеев в солдатской форме и усердно проделывал под его руководством различные ружейные приёмы и был необычайно польщён, когда Ревентлов уверил его, что он может служить фланговым в первой шеренге прусского полка.
Великая княгиня любила беседовать с бароном Ревентловом. Лев Нарышкин, Салтыков не могли не видеть в нём равного себе по происхождению и не признать его превосходного искусства во всех военных упражнениях. Наконец, супруги Чоглоковы также оказывали ему дружеское участие. При дворе великого князя его положение было во всех отношениях приятно. Тем не менее тяжёлый гнёт теснил сердце Ревентлова.
Разговор между канцлером и Репниным, невольно подслушанный им, тревожил его. Внезапные и бурные вспышки страсти у императрицы Елизаветы Петровны давно стали известны всей Европе. Все знали её способность влюбляться сплошь и рядом с первого взгляда в едва знакомых мужчин, причём подобные увлечения редко отличались продолжительностью.
При этом императрица, естественно, не считала возможным сопротивление такой внезапно вспыхнувшей её страсти. И хотя он был далёк от всякого самодовольного тщеславия, однако самолюбие не позволяло ему отрицать всякую возможность или вероятность предположения проницательного канцлера. Он отправлялся на придворные праздники, дрожа от страха, с потупленными взорами, с робостью молодой девушки, которая в первый раз чувствует обращённые на неё взоры большого общества, подходил с великокняжескою четою и её двором к императрице для приветствия. При этих взаимных приветствиях, которые, смотря по прихоти Елизаветы Петровны, затягивались дольше или сокращались, выходили ласковее или холоднее с её стороны по отношению к племяннику и его супруге, государыня никогда не упускала случая бросить на молодого голштинского камергера долгий, пристальный взор, как заметил это ещё граф Бестужев. И хотя Ревентлов скорее чувствовал, чем видел, этот взгляд, всякий раз кровь невольно ударяла ему в лицо и стоило труда сохранить самообладание. Императрица отличала его также перед всем придворным штатом своего племянника, обращаясь к нему всякий раз с несколькими милостивыми словами. Однако эти слова произносились всегда вслух пред всеми окружающими. Иван Шувалов стоял при всех этих случаях возле своей царственной повелительницы, и помимо лестного и милостивого разговора, которым государыня удостаивала чужестранца, было бы невозможно найти в её замечаниях какой-нибудь иной, особый смысл и нечто более обыкновенного благоволения к изящному рыцарю и кавалеру.
Так как это продолжалось некоторое время без всяких перемен, то молодой человек уже начал постепенно приобретать вновь свою прежнюю спокойную непринуждённость и надеяться, что граф Бестужев ошибся, вопреки своей острой наблюдательности и знакомству с характером императрицы, и что опасность, внушавшая ему такой неодолимый страх, вовсе не существовала или благополучно прошла. Ревентлова ещё больше укрепляло в этом мнении то обстоятельство, что Иван Шувалов и оба его двоюродных брата, Пётр и Александр, также обходились с ним при каждой встрече с благосклонной приветливостью, не чуждой, однако, некоторой гордой снисходительности, от которой иногда начинала закипать его возмущённая кровь немецкого дворянина. Он полагал, что Иван Шувалов, равно как и его двоюродные братья, наблюдают за увлечениями императрицы рьянее, чем канцлер, и потому они не оказывали бы ему такого ровного благоволения, если бы о чём-нибудь догадывались, что было высказано графом Бестужевым в интимной беседе с Репниным. Поэтому голштинец ободрился и соблюдал лишь одну предосторожность — держаться как можно дальше на празднествах от глаз государыни, к чему побуждали его и врождённые наклонности. Он любил уединение отдалённых боковых комнат Зимнего дворца, где ему было удобно предаваться мечтам. Предметом же этих юношеских мечтаний, как понимает читатель, неизменно была красавица Анна Михайловна.
Ревентлов пользовался каждым свободным от службы часом, чтобы заглянуть в гостиницу Евреинова, как и Брокдорф, со своей стороны, употреблял свои досуги на то, чтобы навещать сестёр Рейфенштейн.
Красавица Анна каждый раз встречала молодого гостя с сердечной радостью, как старинного друга; когда он появлялся, она не спускала с него взора, сама заваривала ему чай, и если барон подсаживался тогда к ней на лавку у маленького буфета, где они сидели вдвоём в первый вечер их знакомства, тогда девушка брала в руки балалайку и пела ему под аккомпанемент русские народные песни, в которых слушатель понимал теперь всё больше и больше. Для прочих посетителей, которых Анна встречала прежде так приветливо и радостно, у неё находился теперь едва равнодушный взгляд, холодный поклон, и часто требовалось строгое, сердитое замечание Евреинова, чтобы напомнить девушке её обязанности радушной и гостеприимной хозяйки.
Такая резкая перемена в дочери, равно как и её причина, не могли укрыться от зоркого взгляда отца, и это открытие внушило ему сильнейшее недоверие к Ревентлову. Правда, он приветствовал молодого человека при его посещениях с почтительной учтивостью, подобавшей придворному кавалеру и камергеру наследника престола. Когда же молодые люди сидели вместе, совершенно поглощённые своей беседой, словно оторванные от всего окружающего, Евреинов мрачно и грозно посматривал на них издали и в его глазах можно было прочесть почти сожаление о том, что чужеземец, приковавший к себе его дочь как будто внезапным колдовством, носит знаки камергерского звания, которое делает его неприкосновенным и исключает возможность отказать ему от дома. Отец не говорил ни слова с дочерью об этом деле, причинявшем ему горькие заботы; помимо строгих и сердитых напоминаний о том, чтобы она не забывала своих обязанностей, лежавших на ней как на хозяйке дома, он обращался с нею по-прежнему сердечно и ласково. Опытный, умный старик знал, что в подобных случаях всякое резкое вмешательство только усугубляет зло.