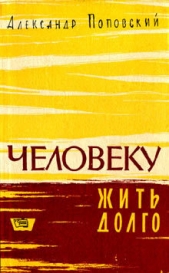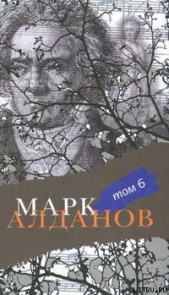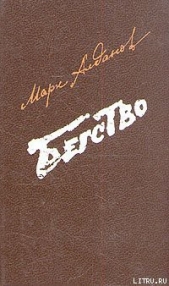Повесть о смерти
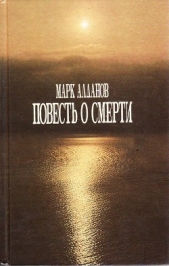
Повесть о смерти читать книгу онлайн
Марк Алданов — блестящий русский писатель-историк XX века, он явился автором произведений, непревзойденных по достоверности (писатель много времени провел в архивах) и глубине осмысления жизни великих людей прошлого и настоящего.
«Повесть о смерти» — о последних мгновениях жизни Оноре де Бальзака. Писателя неизменно занимают вопросы нравственности, вечных ценностей и исторической целесообразности происходящего в мире.
«Повесть о смерти» печаталась в нью-йоркском «Новом журнале» в шести номерах в 1952—1953 гг., в каждом по одной части примерно равного объема. Два экземпляра машинописи последней редакции хранятся в Библиотеке-архиве Российского фонда культуры и в Бахметевском архиве Колумбийского университета (Нью-Йорк). Когда Алданов не вмещался в отведенный ему редакцией журнала объем — около 64 страниц для каждого отрывка — он опускал отдельные главы. 6 августа 1952 года по поводу сокращений в третьей части он писал Р.Б. Гулю: «В третьем отрывке я выпускаю главы, в которых Виер посещает киевские кружки и в Верховне ведет разговор
с Бальзаком. Для журнала выпуск их можно считать выигрышным: действие идет быстрее. Выпущенные главы я заменяю рядами точек»[1].
Он писал и о сокращениях в последующих частях: опустил главу о Бланки, поскольку ранее она была опубликована в газете «Новое русское слово», предполагал опустить и главу об Араго, также поместить ее в газете, но в последний момент передумал, и она вошла в журнальный текст.
Писатель был твердо уверен, что повесть вскоре выйдет отдельной книгой и Издательстве имени Чехова, намеревался дня этого издания дописать намеченные главы. Но жизнь распорядилась иначе. Руководство издательства, вместо того, чтобы печатать недавно опубликованную в журнале повесть, решило переиздать один из старых романов Алданова, «Ключ», к тому времени ставший библиографической редкостью. Алданов не возражал. «Повесть о смерти» так и не вышла отдельным изданием при его жизни, текст остался недописанным.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Были разговоры о том, что они непременно когда-нибудь встретятся опять.
— Я, может быть, через год-два приеду в Париж по делам, — говорил он.
— Значит, м о ж н о получить паспорт? — спросила она обиженно.
— Я буду хлопотать.
— А как ты меня там найдешь?
— Ты мне напиши твой адрес в Киев bureau restant. У нас это называется «до востребования».
— «До востребования», — повторила она и попросила, чтобы он ей записал эти два слова. Своего адреса он ей не дал, но она не обиделась. Ни инглез, ни другие ей никогда своих адресов не давали и все просили писать bureau restant.
Они, впрочем, пожили еще некоторое время во Флоренции. Роксолана, — после легкого колебания, заказала себе несколько платьев. Разумеется, гораздо приятнее было бы заказать их в Париже, но здесь, она знала, и после раздела денег, заплатит русский старик. «Да и кто их знает, может, если революция, то и портнихи не шьют?.. Нет, верно портнихи шьют и в революцию». Лейден и сам ее упрашивал не торопиться: расставаться с ней навсегда оказалось не так легко, как он прежде думал, — слова «навсегда» и «никогда» были во всем для него самыми страшными из слов.
В последний день он особенно старался ее баловать. По своей привычке думать литературно, очень усилившейся в Италии, в иногда с ним случавшиеся минуты самооболыценья, даже говорил себе, что он, как сторож в камере заключенных, играет в карты с человеком, которого завтра казнят. Но тут же себе отвечал, что никакая казнь Роксолану, слава Богу, не ждет. «Может быть, она и рада, что расстается со мной. И права, что рада, я верно скоро совсем сойду с ума на загробной жизни», — думал Константин Платонович. От того, что он так много времени уделял мыслям о вещах потусторонних, Лейден, как иногда и прежде, испытывал что-то вроде гордости, точно это ему давало некоторый патент на духовное благородство.
На следующее утро он проводил Роксолану на почтовую станцию. Достал для нее самое лучшее место. Хотя еды, особенно сластей, она взяла с собой много, в последнюю минуту он купил ей еще винограда, который она особенно любила (говорила, впрочем, что константинопольский гораздо лучше итальянского). Роксолана плакала. Он смотрел на нее, стараясь навсегда запомнить ее лицо. Затем долго махал платком вслед карете. Затем вспомнил, что так же было в Киеве при прощании с женой.
«Ну, вот, и кончено, совсем кончено!» — думал он, одновременно с грустью и с облегчением. Понимал, что никогда больше Роксоланы не увидит. «Был вроде Би-Шара, а теперь опять Ба-Шар!» Чувствовал себя как те временные генералы в иностранных армиях, которые после окончания войны становятся снова полковниками; хотя ничего постыдного в этом нет, всё же несколько неловко: был генералом и больше не генерал. Он зашел в ресторан около Палаццо Веккио, где так часто обедал с Роксоланой. Лакей, давно оценивший его щедрость, почтительно справился, уж не больна ли синьора.
— «Она уехала», — кратко ответил Лейден. На лице лакея выразилось не то сожаление, не то сочувствие. «Да, разжалован… Был ли я хоть счастлив в эти дни? Пожалуй, несколько дней. Да когда же я вообще был счастлив? В детстве? В ранней юности? Эти годы принято считать счастливыми, но это самообман: ясно помню, что я и тогда себя счастливым не чувствовал. Таким верно уродился. Было, конечно, больше физической бодрости, энергии, задора, только и всего. А счастье это другое. Не знал его, не знал. Что же это такое, если оно даже не сувенир?.. Сувенир тут не подходящее слово… Кажется, я стал в последнее время несколько путать слова. В почтовой конторе я думал, как неестественно звучит по-русски слово „почтальон“… Теперь уже и намека больше не будет ни на какое „счастье“. Ненадолго же я помолодел от константинопольского чуда. Этакий Фауст, с кошельком вместо Мефистофеля… Я когда-то думал, что у Гете старый Фауст гораздо интереснее молодого»…
Вечером в кофейной он еще представлял себе, как Роксолана, одна, в неудобной, неуютной карете, едет в новую страну, где у нее никого нет. «Должно быть, жутко ей. Вспоминает обо мне? Может и плачет втихомолку? А скорее утешается: пересчитывает мысленно деньги. Всё-таки она очень добрая женщина. И вообще надо судить людей по лучшему, что в них есть. Человечество не так уж плохо. Правда, улучшить его не мешало бы. Было бы совсем хорошо, ежели б уменьшить число прохвостов. Они, разумеется, исключение, но слишком много исключений»…
Всё с ним случившееся, и теперь безвозвратно кончившееся, вдруг показалось ему необычайно глупым. «Особенно эти мои „угрызения совести“! Да с кем же этого не бывало! От т а к и х угрызений совести пришлось бы повеситься всем мужьям! Господи, как глупо! Да пропади она в конце концов пропадом, эта Роксолана! Освежился похожденьицем, не заболел, не разорился, и слава Богу!» — всё веселее думал он. — «Да и ей незачем пропадать пропадом, дай ей Бог всего лучшего». Он вернулся в гостиницу.
Проснулся он рано, о Роксолане больше и не вспоминал. Заставил себя думать — с нежностью — об Ольге Ивановне. «Ведь когда-то я был в нее влюблен как сумасшедший. Этот волшебный замок не взорвался: он у меня… Опять не нахожу слова… II s'est effrite [76]… И так, конечно, бывает почти у всех. Однако в теории мой сон был верен: всё-таки самое высокое в мире беззаветная преданная любовь, она постоянная величина, а не переменная»… Константин Платонович вспомнил, что еще не купил своим подарков. Можно было опять зайти в магазин ювелира: однако ему — после похожденьица — было бы неприятно именно там купить подарки жене и дочери. Для Лили выбрал что-то из старинной раззолоченной флорентийской кожи. А Ольге Ивановне решил купить очень дорогой подарок в Вене.
О портрете он думал теперь иронически. «Что за вздор! Почему в самом деле душа какого-то Неизвестного эпохи Возрождения вдруг могла бы переселиться в тело почтенного киевского агронома, который на старости лет вообразил себя Би-Шаром. Таких Би-Шаров, ездящих по вечерам с дамами на Труханов остров, и в Киеве пруд пруди, и из них многие любят экзотику, восточных женщин, без всякого „константинопольского чуда“… Да и сон мой еще как понимать, если даже я не всё в нем сочинил? Любовь выше всего, но какая любовь? Может, и „греховная“ не меньше, чем „чистая“, хотя бы они были даже отделимы одна от другой. И пора всю эту дурь выбить из головы. Билет взят, в Вене пробуду недолго и скоро буду в Киеве. Там начнется прежняя жизнь… Да вот в этом и беда, что прежняя. А то переменить? Нанять управляющего для плантаций и переехать в Петербург или в Москву? Там завести новый круг знакомых, — что-ж всё Тятенька и другие, как он. Засесть за какую-либо метафизическую работу? Издателя не найду, так напечатаю на свои средства. Денег у меня ведь достаточно! И я „владею пером“, — какое ужасное выражение, да и понятие».
Газет он не читал и не знал, что в Италии творится что-то тревожное. По улицам иногда проходили манифестанты, он поспешно от них уходил и совершенно ими не интересовался. Потерял также интерес и любовь к Флоренции.
Все же через несколько дней, накануне отъезда, он опять вечером зашел в музей и долго смотрел на Неизвестного. «Какие же у него глаза? Просто холодные или холодно-издевательские?.. Страшный был человек… И жизнь в ту пору была страшна, и город этот страшный, нет камня, не политого кровью. Везде жарились люди на кострах, везде работали застенки, везде были наемные и ненаемные убийцы, а мы, туристы, интересуемся архитектурой: „Ах, Брунеллески! Ах, я так люблю Арнольфо ди Камбио!“ Да они-то, все эти Брунеллески, отлично знали, что будут застенки во дворцах, которые они строили, у людей, которые им платили, и им было совершенно всё равно. В них всех сидел Неизвестный, у кого больше, у кого меньше».
Он заказал в гостинице счет и расплатился. Начаи — сколько кому оставить — всегда были для Лейдена сложным вопросом: боялся, что оставляет слишком мало. Прислуга осталась, повидимому, очень довольна, — «верно, другие оставляют вдвое меньше? Ну, Бог с ними, они бедняки». В ресторане Константин Платонович с интересом изучал карту, колебался между Raviolini alla Bolognese и Raviolini alla Parmigiana, хотя и не знал, в чем между ними разница, затем долго выбирал вино. Решил было выпить шампанского, несмотря на то, что не очень любил это вино и обычно не оживлялся от него, а тяжелел. Но шампанское стоило очень дорого, он заказал Sorrento rosso frizzante, затем передумал, вернул лакея и велел принести Frascati bianco amabile. «Попробую, напоследок, какое еще такое amabile? Никогда не пил, в России не достанешь», — про себя бормотал он. За соседним столом пили каприйское вино Tiberio люди, показавшиеся ему подозрительными. «Самые Тибериевы морды!» — в несвойственной ему вульгарной форме подумал Константин Платонович. Он засиделся за обедом, так как деваться ему было некуда, и выпив полторы бутылки вина, что-то говорил вслух сам с собой. Лакей на него поглядывал.