Голгофа
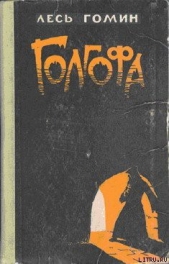
Голгофа читать книгу онлайн
Роман написан на основе достоверных фактов, взятых из жизни молдавских монастырей в период между революцией 1905 года и Великой Октябрьской социалистической революцией. Центральной фигурой романа является пройдоха и жулик Иван Левизор (в монашестве иеромонах Иннокен тий), уроженец с. Косоуцы ныне Сорокского района Молдавской ССР.
Автор показывает чудовищные преступления, совершенные этим проходимцем с позволения и при участии высших духовных и светских властей, наживавшихся на обмане крестьянской бедноты.
Написанная четверть века тому назад, книга представляет большой интерес и в наши дни, так как она зримо, в художественной форме разоблачает «святость» творимых иннокентьевцами дел.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
И он сел к столу писать письма своей пастве. Долго обдумывал, как и что писать. Наконец нашел нужные слова и долго, старательно сочинял своеобразное историческое воззвание, поднявшее на борьбу за Иннокентия всю Каменец-Подольскую губернию.
Амвросий прочитал письмо и целиком одобрил его. Даже не увидевшись с Иннокентием, он выехал в Балту. Не встретился он с ним по многим причинам, которые скрывал от всех. Отец Серафим немедля передал чиновнику особых поручений епархиальной консистории приказ распространить письмо по всей Каменец-Подольской губернии и одновременно распорядился, чтобы благочинные посетили его по делам какого-то церковного устава, которого, дескать, не придерживаются духовные отцы. Во время этих посещений отец Серафим поучал их, какой линии каждый из них должен придерживаться в деле Иннокентия.
Письма пошли в низы. Духовные отцы, посетившие преосвященного владыку и получившие изрядный нагоняй за несоблюдение своего устава, разъезжались вполне уверенные, что наступили времена, когда ничего определенного нельзя сказать о своей парафии. Сельские пастыри хорошо поняли свою роль, и ни один из них не упомянул о еретизме Иннокентия. Напротив, все единогласно утверждали, что инок этот, пребывая в епархии каменецкой и посещая их села, проявил себя преданным вере, а к церкви — почтительным. Одновременно отцы широко оповещали народ, что отец Иннокентий, гонимый за веру православную, терпит обиды и что его отнимают у паствы и ссылают в страну вечного холода, где и солнце только раз в году светит. А там закуют его в кандалы и будут держать так двадцать лет, пока он не отречется от намерения спасти молдавский народ.
Новое движение охватило Бессарабию. Всколыхнулись опять молдавские села, покатились новые волны в Балту, зашевелились бедняки в своих жилищах, искавшие отрады и утешения от своей безрадостной, тяжкой жизни, полной эксплуатации, глумления и грабежа. Волами, лошадьми, пешком двигались бесконечные караваны бедноты, которая несла на своих плечах, везла на телегах, каруцах последнее из хозяйства. В узелках тех были хаты, отошедшие за бесценок к кулакам, нивы, отданные почти даром, лошади, телеги, овцы, виноградники, проданные по дешевке, чтобы путешествие «преотулуй чел маре» было беззаботным и чтобы молился за них пэринцел Иннокентий.
А узнав по дороге, что пэринцел Иннокентий не будет проезжать через Балту, караваны поворачивали в другую сторону и бесконечной черно-серой лентой, как гигантское миллиардоногое насекомое, ползли болотистой дорогой на Бирзулу, через которую должен был проехать спаситель грешных молдавских душ.
Тоскливый осенний ветер свистел над головами, рвал хоругви из посиневших рук церковных старателей. Холод проникал сквозь потертые кожушки и валенки и сковывал движения. Босые ноги бедняков, вернейших заветам Иннокентия и не щадивших плоти своей, трескались на дорожных камнях и, глубоко погружаясь в жирную землю, оставляли в черной холодной грязи капли нищенской крови.
Боли не ощущали.
С поднятыми головами плелись длинные вереницы богомольцев к станции.
Большая площадь перед станцией Бирзула покрыта сплошь черно-серыми фигурами с посиневшими лицами. А к толпе прибывают все новые, толкутся друг перед другом, чтобы своими глазами увидеть того, кто так много должен был сделать для убогого пахаря-бедняка. Перед самым прибытием поезда из Липецкого на бугре против Бирзулы появилась новая вереница прочан. Впереди шел поп Милентий в праздничной одежде, за ним многочисленный синклит мужей и жен «рая», а дальше выступало село Липецкое, поднятое фанатической верой в своего спасителя. Толпа дико устремилась вперед, бездумно, безвольно, с одним только желанием — услышать слово радости, слово отрады.
— Спаси, господи, люди твоя-а-а!..
— Осанна! Осанна! Осанна!
— Осанна тебе, великий спаситель душ грешных!
Жандармский вахмистр суетился на перроне, не зная, как вести себя с этой разношерстной толпой. Впервые за долгую службу не мог решить сложный вопрос: кем считать этих мужиков — то ли крамольниками, то ли стадом духовным православной церкви, которое пришло воздать хвалу господу. В инструкции, касающейся переезда Иннокентия, об этом сказано непонятно. Он хотел получить по телеграфу дополнительные указания от жандармского полковника, но в ответ пришел короткий приказ: «Не разрешать сойти ему с поезда, а стоянку сократить до трех минут».
Страж самодержавного престола растерялся и решил проявить больше находчивости.
Поезд вынырнул из серой туманной мглы осеннего дня и, просвистев, остановился. Толпа взревела тысячеголосое «осанна» и повалила на перрон. Озверевший жандарм бросился к вагону первого класса, откуда показалась лохматая голова красивого, стройного монаха в высоком клобуке, и загородил ему дорогу.
— Выходить, ваше преподобие, нельзя. Жандармский полковник не велел. Строжайше запрещено, ваше преподобие… Мы на службе.
Иннокентий отстранил его рукой и устало ответил:
— Раб божий, не во власти твоего начальства задержать того, кто с именем божьим идет к народу. Отойди и не мешай. Выходить я и без тебя не буду, только посмотрю на своих детей вблизи.
И, обойдя жандарма, стал благословлять толпу. Он искал в ней духовных отцов, которые должны были встречать его, но их далеко оттеснила толпа. Тогда Иннокентий махнул рукой, и вся толпа, расступившись, пропустила вперед процессию во главе с Семеном Бостанику и Герасимом Мардарем.
— Дети мои! Рука господа ежечасно станет защищать вас, только будьте смиренны сердцем и не забывайте обители святой, не забывайте слов моих. Уже недалек час, когда царь царей и владыка владык возьмется судить праведных и грешных. И тогда на земле не будет никакого пристанища грешникам. Дети мои, за вас иду принимать мученический венок. За вас отдаю тело свое на посмешище дьяволу. Будьте верны мне и церкви моей. А я оставляю вам пастырей, — указал он на апостолов и мироносиц. — Аминь.
— Отче наш! Надежда наша! Не покидай, не бросай нас! — ревела толпа.
— Я с вами и снова говорю вам: уважайте себя и подчиняйтесь власти, пока я не прибуду на суд. А я смело пойду на суд царский, чтобы потом представить его на суд господний за дела нечестивые.
Дальше говорить не мог. Из тысяч грудей вырвалось одновременное громкое рыдание. Оно заглушило рев колоколов бирзульских церквей, пыхтение паровоза и свистки жандарма, вызывавшего полицию. Иннокентий только оглядел толпу, медленно повернулся и, вытирая слезы, пошел в вагон. Все рвались вперед, протягивали к нему руки.
— Спаситель душ наших, сжалься! Преотул чел маре!
Иннокентий хотел еще что-то сказать, но к нему подскочил перепуганный жандарм и решительно сказал:
— Прикажу, ваше преподобие, стрелять, если не уйдете.
Иннокентий вошел в вагон. Жандарм махнул начальнику станции. Трижды прозвучал сигнал, кондуктор торопливо дал свисток, и поезд тронулся. Последний взмах руки. Последний крест на головы склонившейся к земле толпы, и черная ряса в дверях вагона превратилась сначала в пятно, потом совсем исчезла. А толпа все стояла. Тоскливый стон витал над ней, уплывая к оловянному небу.
4
Катинка возвратилась в Балту, на душе было тоскливо. Горе сжимало сердце. Непонятная истома лишала сил, и мысли тянулись нескончаемо, как осенняя грязь на молдавских дорогах.
Хотелось подойти к родному человеку, склониться ему на грудь, обнять за шею и от всей души выплакаться. Как плакала когда-то на груди старой Федоры у господ Грабских — была она тогда горничной, — и Самийло… Но это имя отозвалось в ней как-то глухо. Его закрыло что-то другое, более близкое ей, что оторвалось от самого сердца.
Катинка тосковала в одиночестве. Даже мать-богородицу на могла видеть, не могла посоветоваться с ней. Той некогда, она должна выполнить завещание своего божественного сына Иннокентия и заседает где-то взаперти с отцами-апостолами. А среди братии нет доброй души. Очерствели, огрубели их души от бесконечных забот. Да и до нее ли им, если на обитель Балтскую свалилось несчастье. Катинка замыкалась в себе и наедине выплакивала свою боль. И все глубже заглядывала к себе в сердце, перебирала в памяти прошлое, пересматривала его, хотела узнать, зачем и как она здесь живет и что же томит ее.

























