Взятие Измаила
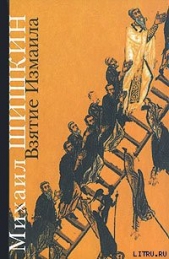
Взятие Измаила читать книгу онлайн
Этот роман был признан лучшим в 2000 году, а его автор получил за него Букеровскую премию. Это роман-загадка, роман-мистерия, в самом названии которого уже содержится интрига, ибо менее всего произведение соотносится с известным военно-историческим событием. `Взятие Измаила` вообще не похоже на канонический исторический роман, хотя в его основе лежат события из нашего прошлого. Дореволюционный уголовный суд – и тут же сцены жизни из сталинских, хрущевских и брежневских времен. Герои реальные и вымышленные, типические; современная лексика и старославянские стилизации – автор словно бы подчеркивает равноценность для России всех времен и событий, их полную взаимопроницаемость.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
– Полно, Катя, помиримся!
Она пожимала плечами:
– Мы не ссорились.
Говорила это сухо, глядя в сторону, и ждала, когда я уберу руки с ее плеч.
Но самое мучение начиналось, когда нужно было ложиться спать. Тот период, когда «ей нельзя», прошел уже с запасом, как ни рассчитывай, но я все ждал от нее какого-то знака, слова, ласки. Катя читала всегда перед сном, потом выключала свет и засыпала. Я тоже читал, и тоже выключал свою лампу, и тоже пытался заснуть, но не мог.
Совместное существование выходило у нас с ней не по-человечески, как-то кособоко, бестолково, невыносимо. Между нами вырастала с каждым днем стена недоразумения, нас относило в стороны прочь друг от друга. Нам нужно было с ней объясниться, поговорить по душам, растопить этот тонкий еще лед, предотвратить всеми силами дальнейшее оледенение.
И вот та ночь. Я не мог заснуть и вышел на кухню, распугав тараканов. Поставил на спиртовке кружку – захотелось выпить мяты.
Я услышал Катины шаги. Она тоже пришла на кухню, заспанная, щуря глаза от яркого электрического света, держа в руке пустой стакан – перед сном она всегда ставила на свой ночной столик воду с лимоном.
– Зачем же ты босиком по холодному полу? – сказал я. – Заболеешь!
Катя, ничего не ответив, стала наливать в стакан из графина.
– Послушай, Катя, – я собрался наконец начать этот разговор, уже не было сил чего-то еще ждать. – У нас с тобой что-то не так. Нам нужно с тобой выговориться. Да, просто сесть и поговорить.
Я ожидал услышать в ответ что угодно, но только не то, что услышал. Она прервала меня:
– О чем нам говорить? О гонококках?
Я поднял на нее глаза.
В ее взгляде было не презрение даже, а безмерная, уничтожающая брезгливость. Она бросила в стакан дольку лимона и ушла.
Как сейчас я сижу на той ночной кухне, чувствую кончиком носа запах лимона, слышу скрип паркета в конце коридора, гляжу на спиртовку с закипающей кружкой и чувствую, как я проваливаюсь в такую бездну, из которой выбраться уже невозможно.
Я был потрясен: значит, Соловьев ей все рассказал. Первой мыслью было пойти убить его. Потом подумал, что этот человек здесь в общем-то и ни при чем. Мерзавец ведь не он, а я. Он всего-навсего врач и, наверно, хотел сделать как лучше, оберечь ее, и, может быть, на его месте я бы тоже так поступил.
Осторожно, не включая света, я вошел в нашу спальню. Я слышал Катино дыхание и знал, что она не спит. Почему-то именно в ту минуту, когда я стоял тогда в темноте около нашей кровати – и часы пробили то ли половину первого, то ли час, то ли половину второго – стало очевидно: в этом доме произошло что-то непоправимое. Я взял свою подушку, одеяло и перенес в кабинет. С той ночи я стал спать у себя на диване.
Потянулись изматывающие, сумасшедшие дни – я спасался работой. И боялся оставаться с этой женщиной наедине. Часто я думал о том, что, наверно, было лучше с самого начала все ей честно рассказать, а теперь между нами выросла ложь, и эта ложь ее оскорбила, но, в конце концов, этой ложью я хотел спасти ее достоинство.
Перед другими людьми, моими клиентами или той же Матрешей, мы с Катей, не сговариваясь, играли в какую-то чудовищную игру, будто мы самые счастливые на свете молодожены, будто все между нами в порядке, разговаривали друг с другом о разных делах, обсуждали, что еще нужно купить для нашей квартиры или что бы этакое приготовить на воскресный обед – наверно, и ей этот театр зачем-то был нужен.
По понедельникам приходила прачка. На кухне от стирки дым стоял коромыслом, в комнаты проникал запах мыла и щелока, пришлось специально подгадать день, в который я не принимал. По вторникам белье висело на заднем дворе, покачивая подолами и штанинами на ветру. Я стоял у окна и смотрел, как моя пижама рукавом трогает ее ночную сорочку.
Однажды ночью случилось то, чего я так ждал, о чем думал все эти дни, на что надеялся и чего в то же время боялся. Отворилась дверь в мой кабинет. Я лежал на боку лицом к стене и притворился, что сплю. Она шла еле-еле, я скорее почувствовал, чем услышал, скрип паркета, шелест ее ночной рубашки. Она села на пол рядом с диваном и сидела так долго. Я не шевелился. Я почувствовал ее руку на одеяле. Катя чуть притронулась ко мне. Показалось, что она что-то шепнула. Я не расслышал – что.
Я хотел было повернуться, схватить ее, целовать, все забыть, любить. И никакая сила не могла заставить меня это сделать. Только тогда, ночью, на том диване, когда Катя невидимая сидела на полу у моих ног и что-то мне шептала неслышное – я почувствовал, как в ту минуту ее ненавидел.
Она ушла так же тихо – в три легких паркетных скрипа.
Время побежало дальше – во взаимно растущем отчуждении. Будто мы сговорились потихоньку убивать друг друга. Всякий пустяк, находящий у любящих снисходительное прощение, будил в нас целые бури злобы, обидных слов и взаимного непонимания. Теперь, когда я тушил за ней свет в уборной, она видела в этом какую-то демонстрацию. Один раз даже крикнула мне, что я доведу ее до сумасшедшего дома, а мне казалось, что это я сам рано или поздно сойду с ума, если все так дальше будет продолжаться.
На людях же мы по-прежнему вели себя как ни в чем не бывало. Она брала меня под руку, смеялась, шутливо говорила какой-то своей подруге, встреченной нами на улице, представляя меня, что вот, мол, это ее супруг, которого она еще не успела разорить, но как только разорит – сразу бросит, и мы все втроем смеялись.
Меня, подмигивая, спрашивали знакомые, когда же будет ребеночек. Я отшучивался.
Так прошло несколько месяцев. То, что было непредставимо, сделалось обыденностью. Мы вошли в этот жизненный ритм, привыкли к нему. Хотя у Кати все чаще происходили нервные срывы. Да и мне тоже с трудом удавалось сдерживать себя в руках. Этот запас раздражения не мог накапливаться бесконечно.
И дело было даже не в многодневном изматывающем молчании, прерывавшемся иногда попытками примирения, кончавшимися еще большим взаимным раздражением, из которого я опять спасался молчанием, а она разговорами в пустоту, вызывающими, оскорбительными, не достойными ни меня, ни ее. Эти срывы у нее иногда выражались в том, что она начинала заговариваться, рассказывать о чем-то, что вообще не имело никакого отношения к реальности, а в ее устах это случалось чуть ли не с ней. Что-то вычитанное становилось частью ее, преобразовывалось в мозге в особую, сумеречную действительность, в которой она сама уже с трудом разбиралась. Она начинала выдумывать что-то несусветное, чтобы сделать мне больно. Так было и на Рождество.
Снега тогда навалило глубоко, по-рождественски. Почему-то я почувствовал, что в этот вечер мы должны с Катей образумиться, прийти в себя, проснуться из нашего ослепления, разомкнуть этот душивший нас круг. Я захотел, чтобы мы встретили Сочельник, как полагается, по-настоящему, с елкой, с подарками. Я смотрел, как дворник ставил елку в крест, и вспоминал детство. Все хотелось устроить, как у нас дома: когда зажигалась елка, после кутьи, подаваемой со звездою, все шли в гостиную, мяса в Сочельник не ели, а только рыбу, зелень и взвар, а подарки складывали друг другу в большую корзину, стоявшую под роялем у елки.
Я нашел такую же корзину, какая была в моем детстве в гимназическом флигеле, купил подарок прислуге: брошку и еще какой-то дребедени, а для Кати долго выбирал что-нибудь изящное и нашел очень красивый и дорогой браслет.
Я боялся, что Катя вообще не выйдет, но она даже с видимым удовольствием решила поддержать эту игру и вышла к ужину нарядно одетая в вечернее платье, в котором я видел ее лишь пару раз – с голыми руками и вырезом на спине. Меня смутило только, что в ее глазах была какая-то радостная злость.
Я зажег на елке свечи и выключил электричество. Осыпанная ватой и блестками, она светилась в темноте, но чего-то главного, рождественского, чудесного, недоставало. Я дал Матреше приготовленные для нее подарки и отпустил ее. Мы остались вдвоем.
























