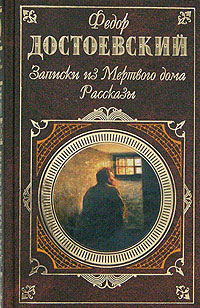Игра. Достоевский
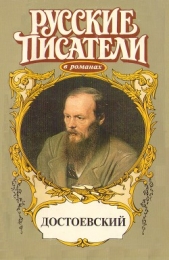
Игра. Достоевский читать книгу онлайн
Роман В. Есенкова повествует о том периоде жизни Ф. М. Достоевского, когда писатель с молодой женой, скрываясь от кредиторов, был вынужден жить за границей (лето—осень 1867г.). Постоянная забота о деньгах не останавливает работу творческой мысли писателя.
Читатели узнают, как создавался первый роман Достоевского «Бедные люди», станут свидетелями зарождения замысла романа «Идиот», увидят, как складывались отношения писателя с его великими современниками — Некрасовым, Белинским, Гончаровым, Тургеневым, Огарёвым.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Он знал Тургенева болезненно мнительным человеком и было подумал, что тот из кокетства или, чего не бывает, без умысла преувеличил чрезмерно те несколько неодобрительных слов, которые, вероятно, проскользнули в печати, и отрывисто переспросил:
— Так уж и все?
Тургенев жалобно усмехнулся, подняв на него тоскующий взгляд:
— Именно — все! Бьют и красные, бьют и белые, бьют и сверху, бьют и снизу, бьют и сбоку, и, разумеется, сбоку-то прежде всего. В большинстве «Дым» вызывает ко мне чуть не ненависть, чуть не презрение, вот оно как.
Тем же изящным жестом откинув клетчатый плед, Тургенев величественно поднялся и, сильно хромая, прошёл к письменному столу, поднял обеими руками груду писем и вырезок, точно взвесил её, и с горечью произнёс:
— Точно не письма, но камни летят.
Его так и ударили эти слова, ведь с ним-то тоже, тоже всё это было, и какие камни ещё, порой целые скалы. Он помнил, сколько ни старался забыть, как ещё сам Белинский, вознеся его до небес за «Бедных людей», решительно не принял его «Двойника», который и тогда и теперь он ставил несравнимо выше «Бедных людей», уверенный в том, что только и именно с «Двойника» началась его настоящая дорога в русской литературе, а вот Белинский увидел в этом романе падение таланта. Этого мало, Белинскому начинало даже казаться, что и прежняя собственная высокая оценка «Бедных людей» была преувеличенной и незаслуженной явно. Белинский, браня сам себя за неумеренные восторги, обращался с неизменной фразой к приятелям, которые любезно переносили эту фразу ему: «Ну и надулись же мы с гением Достоевским!» И, поощрённые искренней этой ошибкой Белинского, приятели обрушились на него чуть не с визгом, меньше всего на роман, а больше на беззащитного автора, и Тургенев тогда, говорят, сочинял на него эпиграммы.
Эти прежние обиды вспыхнули в нём с незабытой, даже с преувеличенной силой. Да, все тогда безжалостно, беспрерывно издевались над ним, терзали его идиотскими сплетнями, кололи злыми булавками эпиграмм, поднимали на смех его неосторожные слова и привычки, уничтожали каждую новую повесть и с презрением смотрели на то, что он в себе вырабатывал ценой тяжких неустанных трудов, ценой голода и бессонных ночей, и все эти издевательства и насмешки, и в особенности сама неожиданность перехода от возвышения и поклонения к безнадёжному отрицанию в нём всякого литературного дарования тогда надломили его, он снова замкнулся в себе, издерганные слабые нервы не выдержали такого дикого напряжения, и жизнь его превратилась в тот ад, о котором часа три назад рассказывал Ивану Александровичу легко и даже шутя. Главное, он тогда был один, совершенно один, а их было много... чуть ли не все...
В нём вспыхнуло злорадное чувство. Казалось, он был наконец отомщён, каково в его-то шкуре побыть, хорошо ли? Самый злой, самый насмешливый, самый удачливый из его тогдашних гонителей попал почти в то же невыносимое положение и должен, должен теперь испытать, каково жить в аду всеобщего негодования, поношения и даже позора. Его так и подмывало задать жёсткий, колючий вопрос, помнит ли тот, какие камни сам в него, бывало, швырял, тогда ещё совсем слабого, только ещё начинавшего и потому вдвойне и втройне уязвимого? Он готов был рассмеяться холодным смехом в лицо. На языке так и вертелось ядовитое слово.
Но в него швыряли такие же камни, и он испытал, как бьют они, почти наповал, в открытую, всегда недостаточно защищённую душу, какие кровавые раны наносят, в какие клочья раздирают её, ведь рубцы этих старых затянувшихся ран снова заныли, и он испытал почти такую же боль, как тому уже двадцать лет, и она оказалась сильнее и заслуженных колючих вопросов, и мстительного злорадства, и ядовитых, калечащих слов. Он устыдился этих низменных побуждений. Он с отвращением и со страхом подумал, какие тёмные, какие запретные чувства ещё и ещё раз со дна души могла возмутить эта месть и это злорадство.
Нет, он никогда не хотел добровольно быть чьим-то непримиримым врагом, он камни швырять ни в кого не хотел, он должен был по-братски протянуть товарищу руку, и он, задавив в себе это, сказал искренно, лишь с преувеличенной беззаботностью, которая была противна ему:
— Критика наша опошлилась, измельчала, она перестала разбираться в искусстве, даже и до того, что ставит выше Пушкина сапоги. Уж кому-кому, а вам такая критика не опасна.
Тургенев разом выпустил всю эту груду из рук, и она, с шумом и всхлипами, разноцветно мелькая, полетела на стол.
— Пусть критика неумна, к этому мы попривыкли, дура так дура, чего ж с неё взять, но, кажется, она ещё никогда никого не ругала так дружно, так бессовестно, так беспощадно, так грубо.
Он мягко напомнил, в самом деле стараясь смягчить, должно быть, жгучую боль от этих всеобщих камней, спеша стереть свою беззаботность:
— У неё и Гоголь был лакейским писателем, куда уж грубей.
Дёрнув кресло, приставив боком к столу, Тургенев грузно опустился в него, склонил голову и мрачно заметил:
— Ну, в Гоголе Белинский открывал гениальность, и даже скопец Шевырев [23] находил руку мастера в каждом эпитете...
Эта мрачность, эта склонённая голова возмущали его, нельзя поддаваться, нельзя раскисать, а Тургенев, запустив свою большую белую руку в эту груду пёстрых бумаг, с ещё большей мрачностью выдавил:
— Если судить по всем этим письмам и отзывам, меня не на живот, а на смерть пробирают во всех концах нашего пространного Отечества.
Глядя на эту взлохмаченную седую склонённую голову, слыша этот мрачный медленный голос, он всё непосредственней, всё сердечней сочувствовал этому видимому несчастью собрата, но к его искреннему сочувствию невольно примешивалась жалость и даже немножко презрения. В этот момент Тургенев представлялся ему слишком мягким, слишком изнеженным, слишком расслабленным, помилуйте, также нельзя. Вероятно, прав был Белинский, когда за подобное слабодушие величал своего любимца насмешливо бабой.
Сломлен, разбит — это ему претило всегда. Каждый раз, когда на него самого обрушивались удары судьбы, в нём вырастала какая-то гневная сила сопротивления, и чем больше в него швыряли камней, тем яростней он порывался к победе, и тотчас после разгромной критики «Двойника» он писал назло всем роман за романом, даже над двумя и тремя работая сразу, лишь бы ни пяди не уступить никому, лишь бы не сдаться, лишь бы отстоять во что бы то ни стало свою правоту.
И ему страсть как хотелось грубо, по-мужски пристыдить, одёрнуть этого недостойно размякшего человека, но у него не повернулся язык, и он промолчал, пряча глаза, стискивая подбородок рукой, а Тургенев, встряхнув волосами, отбросив седые пряди назад, с недоумением заговорил:
— Этим романом я восстановил против себя до каления первей всего людей религиозных, придворных, славянофилов и патриотов, что и понятно, я их не люблю, но и люди, до сей поры постоянно ко мне благосклонные, меня осыпают упрёками. Послушать их, так я оскорбил народное чувство, я лжец, я клеветник, я не знаю вовсе России. Один мой бывший заступник клятвенно уверяет меня, что я Литвинова представил героем, потом доказывает мне, что я изобразил его тряпкой [24], и с торжеством объявляет, что я сам противоречу себе. Каково?
В нём опять шевельнулось злорадное чувство. Всё повторялось, всё нынче случилось так, как было тогда. Именно заступники, именно те, кто относился к нему, слабо говоря, благосклонно, и благосклонней всех почти являлся Тургенев, даже в некотором роде влюблённый в него, превозносивший его до небес. Верно, в жизни есть справедливость, он был отомщён, и был бы смешон со своим соболезнованием, он был бы просто смешон. Или Тургенев уже не помнит о том, о прошедшем? То есть занят только собой?
Тургенев откликнулся с грустной улыбкой:
— Пожалуй, один Писемский одобряет, Ермил.
И запустил руку в разворошённую груду бумаг: