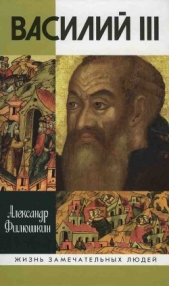Иван Грозный

Иван Грозный читать книгу онлайн
Романы, вошедшие в этот том серии, посвящены жизни и деятельности Ивана Грозного, его борьбе за укрепление Русского централизованного государства.
Содержание:
Шмелев Н.П. – Сильвестр;
Шильдкрет К.Г. – Розмысл царя Иоанна Грозного.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Но ещё пуще, чем Сильвестру, досталось на Соборе том дьяку Ивану Висковатому за его, дьяка, гордыню, и богохульство, и поношение святых икон. С каких это пор, кричали тот же Левкий, и Нектарий, и многие иные чины церковные, всякий невежа дьяк смеет на Руси указывать, как писать святые иконы и что свято по вере нашей православной, а что нет? А ещё видело всё сидение Соборное, что брань та на дьяка-гордеиа угодна государю, и оттого ещё пуще распалялись кричавшие, и, не помилосердствуй тогда царь, быть бы тому спесивому дьяку на Соловках. Но обошлось: только запретил ему Собор ходить ко святому причастию на год, да поклонов земных было велено ему класть по сто на каждый день, да на пирах царских скоромного не есть, не пить и себя блюсти.
А вот Матюшу Башкина Собор постановил заточить в темницу на всю его остатнюю жизнь, пока не призовёт его Господь к себе. А старца Артемия постановили сковать и отослать на вечное покаяние либо в Печенгу, либо на Соловки, куда государь велит. А епископа Касьяна решено было с епископии рязанской прогнать, а дворян Борисовых силою постричь и тоже в какой-нибудь дальний монастырь сослать, а беглого монаха Феодосия Косого, который и из Москвы сумел сбежать, велели святые отцы сыскать и в цепи его навечно заключить. А Федьку Башкина, еретика нераскаявшегося и государевой власти неистового супротивника, Собор постановил предать анафеме и сжечь его принародно живьём на льду Москвы-реки.
Уже стемнело, когда Собор вынес свой приговор и царь наконец отпустил и митрополита, и епископов, и всех остальных. Надо было ехать домой — там ждали, но Сильвестр, потоптавшись немного на крыльце Грановитой палаты, всё же пошёл не к возку, поджидавшему его на Ивановской площади, а к Благовещенью. Большим ключом, всегда висевшим у него на поясе, протопоп отпер двери храма. Стылая церковная темь и гулкая, настороженная тишина встретили его. В дни, когда заседал Собор, в Благовещенье служили лишь заутреню, и уже к ночи стены храма успевали покрыться густым инеем. А свечей бережливый поп тоже попусту жечь не велел: лишь у образа Пресвятой Девы Марии теплилась неугасимая лампадка да другая, поменьше её, мерцала в алтаре, у самых царских врат. Шаркая логами по каменным плитам, Сильвестр прошёл в алтарь, вынес оттуда свечу и, перекрестившись, поставил её у образа Пречистыя. Ну, всё! Похоже, что пронесло...
Печаль теснила его сердце. Было жаль себя, было жаль Матюшу, и брата его Федю, и иных многих добрых людей, кого осудил сегодня Собор. Но ещё больше было жаль попу тех, кто в неправедном гневе своём послал их всех на смерть — либо в темнице, либо на костре. А жалел их поп потому, что то даже не вина была их, жестокосердных, а то была их беда. И платили они все за эту беду сполна плату великую всю свою жизнь.
Платили! И долго будут ещё платить. Оттого-то и живёт везде русский человек по-скотски, в вечном страхе, и раболепии, и горькой нищете, что всяк на Руси ненавидит прежде всего соседа своего, и его и считает виноватым во всём, и никогда не простит никому, кто либо делает, либо думает что по-своему, не так, как все.
Кому помешали Матюша и товарищи его? Чем ущемили они гонителей своих? Ну, Бога вместе искали истинного. Ну, Писание читали и толковали, бывало, по-иному, с пристрастием, не закрывая глаза на иные тёмные в нём места. Ну, хотели, чтобы во храме Божием молящиеся не мучились, не стояли на одеревеневших от усталости ногах до скончания службы, а сидели бы на скамьях, как сидят они везде в иных христианских землях. Кому от этого было худо? Царю, государству, церкви Христовой, народу русскому? Да никому! Никому не было худо. А вот вцепились всей стаей и растерзали невинных, аки звери хищные! Нашумели, накричали, настращали людей, чтобы и впредь никто головы своей не смел поднять от земли, и опять... И опять погрузились в вечную свою дремоту.
Но не одну лишь печаль — и радость тоже испытывал поп. А всё ж таки удалось ему, хитроумному, отстоять любимую икону свою! Не попустил Господь свершиться чёрному делу, отвёл руку, дерзнувшую было посягнуть на святая святых, на образ Пресвятыя Богородицы, покровительницы всех страждущих и скорбящих на Руси...
А ведь, по сути дела, прав был дьяк Иван! Прав! Много соблазну было в сей маленькой иконке для суровой и подозрительной души русского человека. Не зря так ругательски ругался дьяк, не обмануло старого упрямца собачье его чутьё... Слишком тёплой, слишком живой была Пречистая на этой иконе, и чересчур уж материнским, небожественным состраданием к людям светилось её лицо. И слишком уж земным, прямо-таки наяву пахнущим тёплой детской кожей и материнским молоком был младенец у неё на руках... Прав был дьяк: не писали так раньше на Руси! Это в иных, даль-, них странах завели теперь такой обычай: мешать в одно Божеское и человеческое и понапрасну тревожить душу смертного пустыми надеждами на избавление от страха жизни и страданий его ещё здесь, на земле.
Понапрасну? А, собственно, почему? Где, в какой священной книге, в каком Божественном откровении Сказано, что сие человеку не дано? Земной поклон тем двум псковским мастерам, да и тем, кто навёл их на эту мысль: Бог, и Сын Fro Небесный, и Владычица Матерь Божия — то не страшные немилостивые судии человеку, брошенному от века на произвол судьбы и погибающему от собственной беспомощности и гибельных своих страстей, а вечные сберегатели и горние заступники его, радующиеся каждому доброму деянию и каждой удаче его в устроении жизни нашей на земле.
Спору нет: и Андрей Рублёв, и Феофан Грек, и Дионисий великий писали не так. Ввысь, к Богу, к Свету Несказанному и непостижимому рвалась их душа. И омерзительна была им земная жизнь со всей неправдою, и грязью, и жестокостью её. И лишь в Небесах, у. престола Всевышнего, искали они надежду и спасение, презирая всё, что было, что есть и что будет с человеком в юдоли его земной... Но так ли оно, люди добрые? Прислушайтесь к сердцу своему! Может ли человек от рождения и до смерти жить в исступлении, проклиная свой земной удел и уповая лишь на жизнь вечную? Может ли он забыть, что зачем-то ведь послал его Господь на землю, и отдал ему её во владение, и заповедал ему жить на ней в трудах и любви? И вовсе не мачеха ему земля, а мать родная, вспоившая и вскормившая его. И не проклинать он должен жизнь свою на земле, а благодарить Создателя за милость Его неизречённую — возможность жить и быть.
Нет, не ересь это псковское письмо, православные, не зловредное новомыслие! И не гордыня то сатанинская людей, возомнивших себя равными Богу, как шумел тогда, тряся бородой, государев дьяк. Не гордыня то, а стон истомившейся, исстрадавшейся души человеческой. А в стоне том — надежда: либо Господь приблизится к человеку, вняв наконец его мольбам, либо человека приблизит к себе. И не когда-нибудь, не в день Страшного Его Суда, а ещё здесь, на земле.
«Помилуй мя, Господи! — шептал, припав лбом к холодному каменному полу, поп. — Открой мне волю Свою! Твоей ли тайною или недомыслием людским повелось так от века, что не приемлет мир лучших сынов своих и исторгает их из себя? И что означает сие, что обрёк Ты их, товарищей моих, на муки смертные, а меня пощадил? И долго ли мне, убогому, нести на плечах моих ношу мою, или и для меня уже где-то готов топор палача?..»
Но не только богомольный поп, а и государь Иван Васильевич после скончания сидения того соборного не пошёл к себе. Отпустив синклит церковный, государь сначала подозвал Алексея Адашева и о чём-то долю расспрашивал его. А потом, окружённый стражей с факелами, спустился он, государь великий, по потайному ходу из Грановитой палаты вниз, в дворцовые подземелья, осторожно ступая по склизлым каменным ступеням и опираясь на плечо верного постельничего своего.
Долог был царский путь по этому подземелью, сквозь мрак и могильный холод его. Сто ступеней вниз, то и дело задевая за сырые, вырубленные в известняке стены его, потом площадочка и ещё одна потаённая, дверь, а потом по узкому длинному проходу, где идти можно было лишь в затылок друг другу, согнувшись и держась за идущего впереди, и где плескалась под ногами вода, и шарахались от идущих крысы, и то и дело хрустели под сапогами кости тех, кто нашёл здесь последнее своё успокоение, Бог весть, сколько лет, а может быть, и веков назад... А когда кончился наконец этот узкий лаз, открылось перед ними в чадящем свете факелов низкое, но просторное помещение, вроде большой пещеры, с узкими, забранными решётками клетушками вдоль стен. Это и была тайная государева темница, куда бросали лишь важных государственных преступников. Отсюда их и таскали до суда на пытку в Пытошную избу, сюда же, в эти клетушки, и кидали их после суда, кого на голый пол, кого, получше, на соломенную подстилку для верности приковав, однако, и тех и других ещё и цепью к стене.