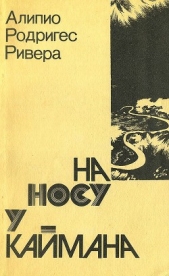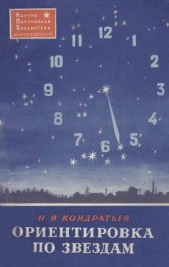Век просвещения

Век просвещения читать книгу онлайн
В романе «Век Просвещения» грохот времени отдается стуком дверного молотка в дом, где в Гаване конца XVIII в., в век Просвещения, живут трое молодых людей: Эстебан, София и Карлос; это настойчивый зов времени пробуждает их и вводит в жестокую реальность Великой Перемены, наступающей в мире. Перед нами снова Театр Истории, снова перед нами события времен Великой французской революции…
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
– Вот что в наших местах именуют «бескровной гильотиной», – заключил свой рассказ Огар.
– Разумеется, все это весьма печально, – согласился Эстебан. – Но ведь тут отбывают наказание и немало таких людей, что сами расстреливали в Лионе, немало общественных обвинителей, немало политических убийц, которые доходили до того, что укладывали тела казненных в непристойных позах у подножия эшафота.
– Здесь все смешались: и праведники и грешники, – ответил Огар, отгоняя мух.
Эстебан уже собрался было расспросить собеседника о Бийо, но в эту минуту к столику подошел одетый в лохмотья и сильно захмелевший старик, который стал кричать, что бедствия, обрушившиеся на французов, вполне ими заслужены.
– Оставьте в покое гостя, – вмешался хозяин гостиницы, выказывая, однако, некоторое почтение к дородному старику, в котором, несмотря на жалкое одеяние, было что-то величественное.
– Мы жили, точно библейские патриархи, окруженные многочисленным потомством и стадами, мы владели фермами, и наши амбары ломились от зерна, – заговорил незнакомец медленно, чуть запинаясь и употребляя такие старомодные обороты, каких Эстебан никогда и не слыхал. – Нашими были земли в Пре-де-Бурке, Пон-де-Бу, Фор-Руаяле и во многих других местах, таких земель больше нигде не сыщешь! Ибо наше благочестие – наше великое благочестие – снискало нам божью благодать. – Он неторопливо осенил себя крестным знамением, и этот почти забытый всеми жест поразил Эстебана своей необычностью. – Мы были акадийцами [97], из Новой Шотландии, и хранили такую верность королю Франции, что сорок лет подряд отказывались подписать гнусную бумагу и признать своими властителями толстуху Анну Стюарт и этого короля Георга, [98] которого нечистый, конечно же, будет вечно поджаривать на адском огне. А потом началась Великая Смута. [99] Пришел черный день, английские солдаты изгнали нас из домов, отобрали у нас лошадей и скот, опустошили наши сундуки, а мы сами были высланы в Бостон или – что еще ужаснее – в Южную Каролину и Виргинию, где с нами обращались хуже, чем с неграми. Однако, несмотря на нищету, недоброжелательство протестантов и ненависть всех тех, кто видел, как мы, точно нищие, слоняемся по улицам, мы продолжали прославлять своих владык: того, кто царит на небесах, и того, кто, наследуя отчий престол, царит на земле. И так как Акадия уже не была земным раем, каким она была в ту пору, когда наши плуги осеняло благословение всевышнего, нам сотни раз сулили вернуть земли и фермы, если мы только согласимся признать власть британской короны. И мы сотни раз отказывались от этого, сударь. В конце концов – после того как каждый десятый из нас погиб, после того как мы до крови расчесывали свои язвы и сидели на гноище, точно Иов, – нас освободили французские корабли. И мы возвратились, сударь, в нашу далекую страну, уверенные в том, что наконец-то дождались избавления. Однако нас расселили на худых землях, и никто не пожелал прислушаться к нашим жалобам. Но мы говорили: «Тут нет вины доброго короля, он, верно, ничего не знает о наших нынешних бедствиях и даже представить себе не может, какой была Акадия наших отцов». А позднее многих, и в их числе меня, привезли сюда, в Гвиану, где земля говорит неведомым языком. Мы, жившие среди елей и кленов, дубов и берез, очутились здесь, где приживается и прорастает лишь вредное семя, где поле, вспаханное днем, по ночам губит рука сатаны. Да, сударь, сатана тут повсюду, он вмешивается в любое дело. То, что ты хочешь вырастить прямым, вырастает кривым, а то, чему надлежит быть кривым, становится прямым. Солнце, поднимаясь весною над нашей Акадией, растопляло снега, даруя нам жизнь и радость, а здесь, на берегах Марони, оно становится сущим проклятием. От солнечного тепла и дождевой влаги в наших краях наливались колосья, а тут – это бич, тут солнце сушит посевы, а от дождей они гниют. И все же меня поддерживала гордость, – ведь я не отрекся от верности королю Франции. Я находился среди французов, и они, по крайней мере, относились ко мне с уважением, я принадлежал к свободному народу, более свободному, чем всякий иной, к такому народу, который предпочел разорение, изгнание и смерть отказу от верности своим владыкам… Нашими были, сударь, земли в Пре-де-Бурке, Пон-де-Бу, Фор-Руаяле… Но вот пришел черный день, когда вы, французы, – захмелевший старик при этих словах ударил по столу узловатыми кулаками, – дерзнули обезглавить нашего короля, вызвав этим Вторую Великую Смуту, и мы лишились почета и достоинства. Со мной стали обращаться как с человеком «подозрительным», враждебным сам не знаю кому и чему, – это со мной-то, хоть я уже целых шестьдесят лет страдаю только из-за того, что пожелал остаться французом, хоть я потерял все свое достояние, хотя моя жена умерла тяжелыми родами в трюме плавучей тюрьмы, так как мы не пожелали отречься от своей родины и веры… На свете, сударь, теперь только нас, акадийцев, можно считать настоящими французами. Все же остальные – просто смутьяны, забывшие и бога и совесть, они утратили свою честь и готовы смешаться с лопарями, маврами и татарами.
Старик схватил бутылку с тростниковой водкой, сделал большой глоток и, повалившись ничком на мешки с мукою, тут же заснул, все еще бормоча что-то насчет этой проклятой страны, где с деревьями нет никакого сладу.
– Слов нет, они и впрямь были достойными сынами Франции, – заметил Огар. – Беда их в том, что они пережили свое время. Они точно люди с другой планеты.
И Эстебан подумал о том, какая все-таки нелепость, что в Гвиане одновременно оказались и жители Акадии, убежденные в немеркнущем величии королевского режима, который был им знаком только по парадам, знаменам, портретам, эмблемам, и другие люди, которым все слабости и пороки этого режима были так хорошо известны, что они посвятили всю жизнь его ниспровержению. Мученики, ставшие жертвой своей полной неосведомленности, не в состоянии были понять мучеников, ставших жертвою слишком большой осведомленности. Тем, кто никогда не видел трона, он представлялся величественным и монументальным. Те же, у кого он все время был перед глазами, отлично различали все трещины и темные пятна на нем…
– Любопытно, что думают о боге ангелы? – сказал Эстебан, и вопрос его, должно быть, показался Огару верхом нелепости.
– Что он – напыщенный глупец, – смеясь, ответил владелец гостиницы, – хотя Колло д'Эрбуа в последние дни своей жизни не раз взывал к нему о помощи.
Так Эстебан узнал о печальном конце вдохновителя лионских расстрелов. По прибытии в Кайенну он был вместе с Бийо устроен при лазарете, которым ведали монахини, и по роковой случайности попал в каморку, именовавшуюся «палатой Людовика Святого», – надо помнить, что именно Колло д'Эрбуа требовал немедленного, безотлагательного осуждения последнего из Людовиков. С самого начала он предался безудержному пьянству, не вылезал из кабаков и писал на клочках бумаги бессвязные воспоминания, которые, по его словам, должны были воссоздать правдивую историю революции. Напившись, он горько оплакивал свою злосчастную судьбу и жаловался на полное одиночество в этом аду; старый комедиант сопровождал свои сетования такими патетическими жестами и воплями, что суровый Бийо выходил из себя.
– Ты не на сцене! – кричал он Колло. – Сохраняй, по крайней мере, достоинство, говори себе, как это делаю я, что ты выполнил свой долг.
Волны термидорианской реакции постепенно докатились до Гвианы, и местные негры прониклись враждою к бывшим членам Комитета общественного спасения. И когда те появлялись на улице, их осыпали насмешками и оскорблениями.
– Если бы мне пришлось все начать сызнова, – ворчал сквозь зубы Бийо, – я бы вряд ли даровал свободу людям, которые даже не понимают, какой ценой она достигается; я отменил бы декрет от шестнадцатого плювиоза второго года Республики.
«Виктор необыкновенно гордился тем, что привез в Америку этот декрет», – подумал Эстебан. Жаннэ выслал Колло из Кайенны и приказал ему жить в Куру. Там «папаша Жерар» еще больше пристрастился к спиртному, он бродил по дорогам в разорванной куртке, набив карманы замусоленными листками, приставал к прохожим, спал прямо в придорожных канавах и учинял скандалы в трактирах, где ему отказывали в кредите. Однажды ночью он выпил бутылку какой-то едкой жидкости, которую, видимо, принял за водку. В тяжелом состоянии Колло д'Эрбуа был отправлен местным фельдшером в Кайенну. Однако негры, которым было поручено доставить его в город, бросили больного по дороге, обозвав убийцей, предавшим бога и людей. Беднягу поразил солнечный удар, и он был в конце концов доставлен в лазарет монахинь святого Павла Шартрского, где по воле случая вторично оказался в «палате Людовика Святого». Там Колло принялся громко призывать бога и пресвятую деву, умоляя их простить ему прегрешения. На его отчаянные вопли прибежал караульный-эльзасец, который пришел в ярость при виде этого запоздалого раскаяния: он напомнил умирающему, что всего месяц назад тот подстрекал его поносить священное имя богоматери и убеждал, будто житие святой Одилии – пустые россказни, придуманные для того, чтобы морочить народ. Теперь Колло требовал, чтобы к нему привели исповедника, – скорее, как можно скорее! – по его телу пробегали судороги, он стонал и плакал, говоря, что внутренности у него охвачены огнем, что его сжигает лихорадка и что ему нет больше спасения. Под конец он стал кататься по полу и умер, захлебнувшись кровавой рвотой.