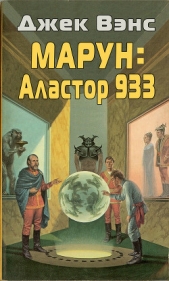И лун медлительных поток...

И лун медлительных поток... читать книгу онлайн
«Неохватные кедры просторно раскинули тяжелые кроны, словно держат на себе задремавшую тяжесть времени…» В безбрежность тайги, в прошлое северного края погружаемся мы с первых страниц этой книги. Здесь все кажется первозданным — и природа, и борьба за существование, и любовь. «И на всю жизнь, на всю долгую жизнь в Мирона вошло и осталось пронзительное, неугасимое удивление перед женщиной, что горячим телом, обжигающим ртом защитила его, оборонила от смерти. Она обнимала его нежно и плотно, обнимала волной от головы до пят, она словно переливала себя в Мирона, переливала торжественно и истово…» Роман-сказание — так определили жанр книги ее авторы тюменский писатель Геннадий Сазонов и мансийская сказительница Анна Конькова. Прослеживая судьбы четырех поколений обитателей таежной мансийской деревушки, авторы показывают, как тесно связаны особенности мировосприятия и психологии героев с поэтичным миром народных преданий и поверий, где «причудливо, нерасторжимо сплетались вымысел и чудо, правда и волшебство». В центре произведения — история охотничьего рода Картиных с начала XIX века до последнего его десятилетия. Авторы хотели продолжить повествование, задумана была вторая книга романа, но кончина писателя Геннадия Сазонова (1934–1988) оборвала начатую работу. Однако переиздается роман (первое издание: Свердловск, 1982) в дополненном виде — появилась новая глава, уточнен ряд эпизодов. На переплете — фрагмент одной из картин художника Г. С. Райшева.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
По вечерам охотники собирались на огонек то у одного, то у другого, но в юрте дымно, чад от лучины и жирника, от скрученной бересты духота. На берегу, под теплым кедром, раскидывали невысокий, но жаркий костер и вели неторопливые разговоры о неприступном урмане, о неспящем звере, о дичи боровой, о русских купцах, о «друге» Пагулеве.
— Плохо… шибко плохо. — Тимофей выкатил из костра уголек, положил в трубку — затрещал в трубке мох с табачными крошками. Молод еще, крепок, высок Тимофей, плечи широки, самый сильный, самый фартовый он евринский охотник. Смуглое лицо непроницаемо, только слегка вздрагивают ноздри. — Шкура на мне лопается. Наверное, руки отнимутся — никак в урман не попаду. — На широком поясе Тимофея длинный тонкий нож, а рядом с ним покачиваются два десятка медвежьих клыков. — Тонут мои собаки в снегу. Не могут следить зверя.
— Не могут, — согласился Кентин Яшка. — Тонут собаки. Белка нынче пасется на самых высоких деревьях, птица шишку на сосне отбирает у белки.
— Вчера, — потянул трубку Тимофей и передал по кругу, — убил стрелой белку. Полетела она вниз, да потерялась. Думаю, дай-ка стукну по стволу, наверное, упадет вниз. Два разу ударил, да ухнула на меня кухта. Ай-е! С головой и покрыла. Собаку еле откопал. А белку так и не нашел.
Яшка Кентин молча выбил пепел из трубки, чубуком почесал спину и проворчал в редкие усы:
— Не помню такой зимы. Гнилая совсем — то оттепель, то снег, снег, как дождь… Ходил три дня тому в Вись-Павыл. Иду, иду… тону по пояс. Пришел в юрту мокрый, как крыса водяная.
Тимофей Картин посмотрел в печальные глаза евринцев и протянул успокаивающе:
— Ничего, мужики, может, чарым добрым будет. По чарыму лося возьмем. Будем ждать чарым — режет он ноги лосю, оленю, вовсе режет. Только собакам налапники заранее сделать.
— Будем ждать чарым. Вот тогда и пособолюем! По переновке хорошо следить зверька.
— Нет, — возразил Тимофей. — Нынче не сытый соболь. Голодный он, бегает туда-сюда за пищей… Как бы вовсе не откочевал в дальние урманы.
Морозы так и не вернулись, чарым не установился, зимник не наладился, и купцы не заглянули в Евру. Запасы истощались день ото дня, голод, словно волчья стая, окружал мансийскую деревушку, утонувшую по крыши в снегу.
Собрался селянский сход. Покричали, пошумели, порешили раньше времени обловить Маленькую речку — Вись-Я. Жалко старикам, здорово было жалко распечатывать ершовую речку, на самое трудное время хранилась там рыба, как в садке. Назначили, однако, день.
С утра, только-только разгорелся день, старики, взрослые мужчины и юноши, переговариваясь негромко, по узким тропкам спустились к реке. Пешнями с закаленными железными наконечниками, тяжелыми ножами и топорами вырубили во льду лунки-проруби. Они шли цепочкой от зимнего запора вверх по речушке. Мужчины и юноши взяли в руки кумпалки — гладкие длинные шесты с широкими поперечными дощечками на конце. С силой опускали они кумпалки — ботала в лунки, с шумом бултыхали ими в воде. Вода в лунках просыпалась, дышала, начинала вздыхать, охала она, звонко билась и бурлила в ледяной горловине, вырывалась из проруби, словно хотела наброситься на людей, что лишили ее сонного, дремотного покоя. Булькала, тяжело плескалась река, металась загнанной лисицей подо льдом, ожившая и разъяренная. Высокими хвостами, холодными голубыми языками обвивала река шесты кумпалок, шипя, стремительно припадала к рукавицам и шабуринам. Прикоснувшись к одежде, вода тускло отсвечивала, скатывалась тяжелыми волнами и затихала, замерзая ломкой, хрусткой чешуей. Обледенелые рукавицы скользили и срывались с шестов, но рыбаки, не останавливаясь, глубоко, прерывисто дыша, бухали и бухали боталами. Окуни и ерши, встревоженные, испуганные глухими придонными ударами, плотными стайками и косяками устремлялись к запору, где хоронилась, ожидая их, настороженная глубина омута, и, шарахаясь друг от друга, они входили в морду-кямку. Кумпалыцики стремительно, в едином ритме перебегали от лунки к лунке, подгоняя рыбу к запору.
Кентин Яшка и старый Сельян с несколькими стариками уже несколько раз закрывали доской воротца запора, вытряхивали окуней из морд-кямок на лед. Зеленоспинные колючие ерши, красноперые окуни гибко поднимались на хвосты, раскинув красные и оранжевые плавники, засыпали, выпучив желтые глаза. На последних перед запором лунках возбужденные евринцы, шумливые, уставшие от непрерывного стремительного темпа кумпания, ударили враз, дружно и резко остановились. Богат улов!.. Хороши увесистые, плотные окуни, ерш нагулян — добра уха!
Разделили рыбу по паям, раскинули по кучкам, поделили, и вот друг за другом над избами поднялись, не сгибаясь, синеватые дымки. Сытной ухой потянуло над рекой. И вот уже к Манье — к ершовому садку — спустились подводы, а безлошадные потянули за собой санки и нарточки, груженные рыбой. Ничего, что тяжелы сани, — это дорогая тяжесть пищи, это добрая тяжесть добычи.
Темно-зеленые, желтоглазые, красноперые груды окуней лишь первые дни гляделись огромными. Когда нет хлеба и вовсе нет мяса, на ухе долго не протянешь. Непрерывно кипит и булькает уха в колташихе, прыгают в ухе белые глаза, плещет на уголья и настаивается в юртах запах голода — женщины целыми днями нависали над огнем чувала, готовя еду.
И снова собирались мужики под кедром, тоскливо полыхая глазами, смотрели в темный урман и вздыхали: как жить, чем кормить детей? Опять брать в задаток у Кирэна? Еще не рассчитались со старым долгом, а тот растет и плодится, как мышиное гнездо под старым пнем. Нагуливается долг, как щука в старице, гляди, и проглотит целиком. У задатка широкая пасть, задаток-слопец прихлопнет, как глухаря. Всю муку, что завозил Пагулев, а после него другие купцы, уже раздал Кирэн. Сейчас он дает по горсти, отсыпает так, словно от себя отрывает, да только тогда, когда ему соболя, куницу или кидуса принесешь. За двадцать верст ходили в Сатыгу, кланялись князьку: «Дай в долг хлеба, дай в долг чаю и табаку». Захохотал громко и отказал Сатыга. Перед началом зимы кто успел, тот еще выменял хлеб на урак и жир у княжеских людей. У князя, у Сатыги, хлеба много, амбары битком набиты добром, он не меняет хлеб на урак. Зачем ему менять у ясачных манси — только скажет, сколько положено ему ураку и жиру с каждого пая, только скажет и не повторит — с одного разу принесут.
— Совсем худой, совсем дурной князь, — поругивают евринцы. — Кротом роется в своем добре, как щука, он ненасытный.
А князь — что? Сроду он не понимал, да и зачем ему понимать рыбака, охотника. Развесил губы, как налим, глазки жиром заплыли, через живот ног своих не видит, как Виткась — Пожиратель Берегов. И что ведь еще придумал? Собрались весной евринцы запор ставить, так согнал он всех мужчин в Сатыгу, на широкий заливной луг, где травы косили для коров и лошадей. Согнал и говорит, точно камни бросает:
— Такое мое повеление будет: пусть эту землю вскопают ясачные люди! Пусть так взрыхлят ее и камни выкинут, чтобы она как постель из пуха стала. Начну я здесь картошку садить. Картошка такой вкусный! Можно сказать, отменный фрукт! Давай!
И принялись охотники и рыбаки ковырять лопатами тот луг, и на кого они стали похожи, не поймешь — смех один на них смотреть. Евринский рыбак всю жизнь держал в руках весло, кумпалку и топор. А вот взялся за лопату и не знает, чего с ней делать. Или охотник — чего он знает, кроме ружья, ножа да рогатины? Ведь в Евре не каждый огород имел. Фартовый охотник разве позволит себе ковыряться в земле? Нет, не позволит он себе рыть корешки, может хренку накопать, да и только. А князек — его не обойдешь, как медведя в тайге. Так и копали евринцы травянистый луг. Долго-долго копали, а река осталась незапертой, и не добыли рыбы. А за ту непутевую работу Сатыга хлеба отсыпал, как воробьятам.
С зажиточными русскими мужиками, что приходили гужом из Гарей и Пелыма, торговать можно было. Крестьяне променивали лишний хлеб, а евринцы — пушнину, урак, орех. А вот с богатым купцом торговать труднее, просто опасно. Купец — это тебе не мужик с возом хлеба, с купцом ухо держи востро. Поняли это евринцы, да поздно. Обобрал всех Пагулев, по копейке за пуд «головки» платил, положил свою цену на рыбу — хоть разорвись. Громко кричал после отъезда Пагулева Тятенька Филя, уговаривал евринцев не брать в долг у купца — не послушались. И Ондрэ Хотанг говорил: «Купец обманул вас. За бесценок скупил, а захочет — совсем ничего не даст».