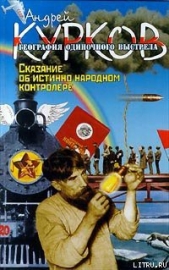Сказание о Маман-бие

Сказание о Маман-бие читать книгу онлайн
Перевод с каракалпакского А.Пантиелева и З.Кедриной
Действие романа Т.Каипбергенова "Дастан о каракалпаках" разворачивается в середине второй половины XVIII века, когда каракалпаки, разделенные между собой на враждующие роды и племена, подверглись опустошительным набегам войск джуигарского, казахского и хивинского ханов. Свое спасение каракалпаки видели в добровольном присоединении к России. Осуществить эту народную мечту взялся Маман-бий, горячо любящий свою многострадальную родину.
В том вошла книга первая.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Нет, пока еще нет, шейх-отец…
Как же ты осмеливаешься являться на той в таком непотребном виде?
Аманлык рукавом размазал по лицу грязный пот, стараясь отдышаться.
— Плохие вести, шейх мой. Как хотите, ругайте, — плохие. Айгара-бий велел: нигде не задерживаясь, домой не заглядывая… Если вы спите — разбудить, хвораете — поднять, даже если молитесь — не дожидаться. А что той — хорошо, тут как раз все главные головы…
Чего тянешь? Не томи! — вскричал Рыскул-бий.
— Я говорю, я и говорю: Абулхаир-хан собирается разорить нашу страну.
Бии отшатнулись от дастархана, затолкались плечами, локтями, загомонили сердито, и поначалу не разобрать было, на что они негодуют: не на то ли, что настроились на шутовство, а шут вздумал их разыгрывать, беря на испуг?
— Ты что мелешь, сукин сын?
— Кто тебя подучил, пес?
— Заткнись, собачье мурло!
— Смотри-ка, что сочиняет, недоумок, невежда! Рыскул-бий возвысил голос:
— Люди, люди! Оглянитесь на самих себя. Этот бедолага ни в чем не виноват. Дайте ему пиалу чая. Пей, юродивый… незваный гость. Рассказывай по порядку.
Аманлык дрожащими руками принял пиалу, приник к ней и не поднимал головы, пока не выпил до дна маленькими жадными глотками горький зеленый настой. Захрипел блаженно, поцеловал пиалу и отдал с благодарностью.
Рассказ его был невеселый. Конечно, Аманлык разрисовал то, как его с женой принимали поначалу в ауле тестя. Жаворонки сыпались с неба на тот семейный той… Но затем Айгара-бий послал зятя со своим братом Мырзабеком в соседние аулы — проверить свои подозрения. И там открылось Аманлыку то, что Айгара-бий предвидел и предсказывал. Гостя неохотно пускали в дом, торопливо выпроваживали, отмалчивались, отнекивались, мычали, как нелюди. Его опасались, как богохульника или чумного. Почему? Потому что он — каракалпак, друг Мамана и еще потому, что женат на казашке… Так встречали на этой земле разве что джунгар.
Дальше — больше. Вернувшись в аул тестя, Аманлык приметил, что и тут джигиты стали посматривать на него косо, стали его чураться. В глаза не винили, но в душе считали виноватым в том, что случилось с Айгара-бием, пока Аманлык и Мырза-бек ездили по аулам… Аманлык онемел от жалости, увидев тестя, а обняв его, отшатнулся, — Айгара-бий застонал от боли. Лицо почтенного аксакала опухло от побоев, и он не мог разогнуть спины, она болела от известных своей щедростью ханских дурре.
Ночью, с глазу на глаз, не тая слезы обиды и стыда, Айгара-бий поведал Аманлыку, как был вызван в аул хана, привязан у всех на виду к решетчатой стене юрты и бит нещадно. А до того обозван ханом продажной душой, изменником, смущавшим народ крамольным соблазном — дружить, видите ли, с черными шапками. Казнить следовало бы за шашни с Маманом, но — в свой черед: сперва хан расправится с самим Маманом и его нищим народцем, сдерет с этого безмозглого племени спесь вместе со шкурой. А того ради велел Абул-хаир Айгара-бию, когда тот был измордован, представить сто вооруженных нукеров; командовать ими — Мырзабеку. Если не способен тот — самолично бию.
Так же сто нукеров хан приказал привести Седет-керею, главе именитого казахского рода, и, надо думать, главам других родов.
— А как он, злодей, настроил, как застращал и озлобил молодых и старших против нас, ты видел воочию, — заключил Айгара-бий.
И той же ночью отослал от себя с благословеньем и черной вестью.
Джигит, увеселитель тоя, словно бы потряхивая недощипанным цыпленком в зубах, изрек, косясь на Аманлыка:
— Юродивого загони хоть на край света, принесет чирей на поганом языке, чтобы ему подавиться! Зачем бог дал корове язык толстый? А затем, чтобы не разговаривала…
Но на сей раз джигит не угодил. Казалось, траурный занавес повис над дастарханом, у всех перед глазами, и всех разъединил. Сидели тесно, локоть к локтю, а по сути — все врозь, каждый со своим угольком страха в обмякшем животе. Никто не был готов к такой беде, никто не знал, что будет делать, если она разразится. И все втайне уповали на то, что Абулхаир лишь стращает, что он не отважится на худшее, как ни охоч тиранить.
Ума не приложу, — проговорил Мурат-шейх удрученно, — как же мы будем воевать с людьми, с которыми вместе гибли в годину белых пяток и вместе ожили под этим небом, ели хлеб за одним столом и пили воду из одного колодца, сватались и роднились своими детьми…
— Шейх-отец! — горячо воскликнул Аманлык. — И я сетую на бога, коли такова его воля! Пусть моя весть окажется ложной. Повесьте меня за вранье на кривом турангиле, я буду рад.
— А и правда… Глядишь, еще и повесим… — отозвался Мурат-шейх. — Что скажете, друг мой Рыскул?
— Скажу, что нет здесь Мамана, — ответил глухо старый беркут. — Скажу, что, сунув башку в песок и выставив напоказ задницу, врага не напугаешь, войну не отвратишь.
Мурат-шейх тяжко вздохнул.
— Износились мои кости… Иссыхают мозги… Однако нет ничего хуже малодушия. Трус помирает от страха прежде, чем его убьют. Храбрый боится одного бога… На что вы меня подбиваете?
— Не зевать. Не молчать. Снаряжайте своего старшего сына Хелует-шейха, никого иного, посылайте сей же час в Оренбург, к наместнику Неплюеву… К русским, к русским! Пока не пала на наши головы война. Мурат-шейх огладил пушистую белую бороду, словно творя беззвучную молитву, и посветлел лицом.
— Пожалуй, — проговорил он твердо.
— Ну и джигитов… звать, собирать, готовить… к самому тяжкому, самому худшему!
— Думаете? — спросил Мурат-шейх опять с сомненьем, с тем миролюбием, на котором верхом ездят.
5
Наконец-то — добрая весть! Вернулась царица. Под вечер стеклись к решетке Летнего сада толпы народа, а в распахнутые первые, вторые и третьи ворота покатили цугом великолепные коляски вельмож; и кучера и господа — в сивых париках. Прибежали туда и черные шапки и увидели, как взвился в небо над садом колдовской холодный огонь. Он с треском рассыпался, ярко сиял, пышно искрился, но не поджигал дерев. С бастионов Петропавловки доносилась пушечная пальба. Все кругом кричали ура. Вечный праздник при дворе Елизаветы Петровны продолжался — вполне счастливо для нее, для графа Петра Шувалова и иных ее фаворитов.
Маман перетрусил, глядя на грандиозный, получасовой фейерверк. Он с оторопью думал, как же он, такой небогатый, появится перед ослепительной дочерью Петра и ее позолоченными с ног до головы придворными в своей скорбной, черной мужицкой шапке?
К тому же стало известно о новых волнениях среди уфимских башкир. Они случались и при Петре, но при Елизавете башкирские замешания участились. На уральских заводах Шувалова и Демидова бунтовали башкиры вместе с русскими крепостными. Оставалось лишь гадать, каково сегодня настроение у столичных ханов, а их было так много…
Той порой обнаружилось, что поручик Гладышев зря дорогого времени не терял. Ежедневно он обивал пороги, как сам говорил. Речь шла о порогах громадного здания Двенадцати коллегий, которое протянулось на полверсты близ Кунсткамеры; каждая коллегия под своей крышей, со своим собственным входом. Известно, что от слова до дела — сто перегонов. Однако Гладышев далеко шагнул за пороги и по лестницам изрядно крутым добрался до высоких столов. Стало быть, дело того заслуживало, оно само собой стряпалось.
И в один прекрасный день Митрий-туре пришел к послам и сказал Маману с откровенной похвальбой:
— Не в том дело, что овца волка съела, а в том дело, как она его ела… Одним словом, судари мои, Государственная коллегия иностранных дел рассмотрела учиненные об вас представления. А рассмотрев, нынче, двенадцатого августа, представила правительствующему сенату такое мнение… Что хотя оный народ, за весьма великим отдалением от российских границ, в действительной протекции и защищении содержать неудобно, однако и, по давнишней оного склонности и по неоднократному обнадеживанию в верности российскому престолу, кажется, — точно сим словом сказано, судари мои, — от подданства отказать непристойно! Не-при-стойно. Чуете на языке соль? А для того, по рассуждению той коллегии, к вашим ханам и старшинам сочинена Грамота. И на рассмотрение правительствующего сената, при том доношении, подана. Как раз нынешний день… Довольны?