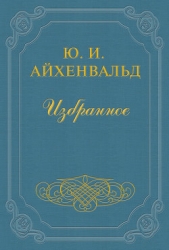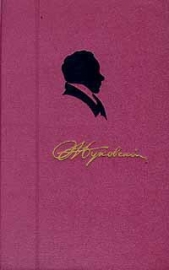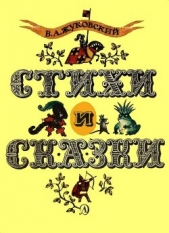Жуковский

Жуковский читать книгу онлайн
Эта книга — жизнеописание великого русского поэта В.А. Жуковского (1783-1852), создателя поэтической системы языка, ритмов и образов, на основе которой выросла поэзия Пушкина и многих других поэтов XIX — начала XX веков.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Были в Павловске старый поэт Юрий Александрович Нелединский-Мелецкий и Василий Перовский, приятель Жуковского. Остальное общество составляли молодые фрейлины — графини Самойлова и Шувалова, княжны Козловская и Волконская, а также другие придворные дамы. Все они просили новых стихов, и Жуковский, преодолевая «мрачное расположение», брался за перо. Сначала он думал, что стихи на случай, экспромты и стихотворные записки помогут ему снова войти в стихию высокой поэзии, но эта область поэзии неожиданно его увлекла. Она явилась как бы очищенной от «галиматьи» чернско-муратовской и арзамасской поэзией. Но он не привел ее и к пустой, холодной галантности мадригалов на заказ. Это были шутливые, свободные, полные мягкого юмора и поэтического изящества стихи — альбомная поэзия в ее высоком качестве, — как один из видов подлинного поэтического творчества.
Жуковский умел быть открытым. «Он бывало, — пишет современница, — смеется хорошим, ребяческим смехом, не только шутит, но балагурит, и вдруг, неожиданно, все это шутовство переходит в нравоучительный пример, в высокую мысль, в глубоко грустное замечание». «В беседах с короткими людьми, — пишет Вигель, — в разговорах с нами до того увлекался он часто душевным, полным, чистым веселием, что начинал молоть премилый вздор. Когда же думы засядут в голове, то с исключительным участием на земле начинает он искать одну грусть, а живые радости видит в одном только небе... В нем точно смешение ребенка с ангелом». Даже с императрицей, вдовой Павла I, он умел шутить без тени раболепия, на полном, свободном дыхании. Так, в ответ на ее просьбу написать несколько строф о луне (одна из вечерних прогулок в парке отличалась особенно великолепной лунностью...), он написал в несколько дней целую поэму: «Государыне императрице Марии Федоровне. Первый отчет о луне, в июне 1819 года», потом прибавил к нему несколько «постскриптумов», а в следующем году явится еще не менее длинный второй — «подробный» отчет о луне...
Шутливость в «отчетах» то и дело оборачивалась поэзией. Задолго до идиллии Гнедича «Рыбаки» явилось здесь описание белой ночи:
Такой тонкой живописи в русской поэзии еще не было, даже в элегиях самого Жуковского. В том же «первом отчете» не менее поразителен по новизне, волшебной точности закат солнца в Павловском парке.
Меняется метр — шестистопный ямб переливается в четырехстопный, а этот в трехстопный... Жуковский уходит от заданной темы и, словно вспомнив свою «Славянку», вновь живописует памятные места и красоты Павловского парка, то и дело уносясь свободной душой в мечты о былом...
Следом, в июне же, написана была поэма «Платок графини Самойловой» (это жанр барочной поэмы типа «Похищенного локона» Александра Попа, XVIII век, в свою очередь подражавшего «Похищенному ведру» Тассони, XVII век). Платок, оброненный в море во время катания на лодке, претерпел ряд чудесных приключений и, наконец, «взлетел на небеса и сделался комета» (у Попа локон прекрасной мисс Арабеллы Фермор — «блистая красотой, поднимается к звездам...»).
Графиня Самойлова была красавица. Вяземский так описывает ее: «Она была кроткой, миловидной, пленительной наружности. В глазах и улыбке ее были чувство, мысль и доброжелательная приветливость. Ясный, свежий, совершенно женский ум ее был развит и освещен необыкновенною образованностью. Европейские литературы были ей знакомы, не исключая и русской». Жуковский писал ей в альбомы стихами и прозой, их встречи были освещены каким-то особенным чувством — это была почти любовь, однако больше со стороны графини Самойловой, которой тогда было двадцать два года... Жуковский смутно раздумывал о возможности для него пусть не любви, но семейного счастья и видел — или хотел видеть — в Самойловой родную душу: «Если еще не имею права сказать: я знаю вас, то могу сказать: я вас предчувствую! — пишет он ей. — То есть я вижу вас такою, какою вы быть можете, в уверении, что мое предчувствие сбудется». Он не нашел здесь того, чего искал. Ему стало грустно оттого, что она не поняла его дружбы. Она поняла только, что он ее не любит. А он глубоко пожалел, что не может ее любить.
В Павловске он получил письмо Маши от 15 июля: «Милый друг, полно так безжалостно молчать... Хотелось бы на тебя сердиться и наказать молчанием, но выходит, что наказываешь себя больше, и поскорей за перо...» Маша рассказывает, что они живут на даче, в 20 милях от Дерпта, что в августе Мойер возьмет отставку, купит деревушку в Лифляндии... «Родная страна с своими радостями, кажется, навеки заперлась... Сердце все еще не перестало роптать». Жуковский спохватился. Вспомнил, что с начала мая он не писал Маше. Он сел и написал ей большое письмо. «Мой добрый, хороший друг! благодарю тебя много за письмо твое. Дружок, ты не понимаешь, как твои письма мне нужны... Ты не знаешь, жива ли я, да и не спрашиваешь». Дней десять пропустила Маша после этой фразы. Потом продолжила письмо: «Жуковский, мне часто случается такая необходимость писать к тебе, что ничто не может ни утешить, ни заменить этого занятия; я пишу к тебе верно два раза в неделю, но в минуту разума деру письма... Когда мне случится без ума грустно, то я заберусь в свою горницу и скажу громко: Жуковский! — и всегда станет легче... Я не потеряла привычку делиться с тобой весельем и тоской».
Она рассказывает, что Мойер, Эверс и другие профессора хотят звать его в Дерпт на место покидающего кафедру Воейкова, — «и поселился бы смирнехонько вДерпте, в нашем доме; мы бы дали тебе 3 хорошенькие комнатки внизу и одну большую комнату наверху, в которую сделали бы теплую лестницу. Ты бы перестал терять свое драгоценное время. С четырьмя тысячами пенсиону и 6.000 жалованья, ты бы жил в Дерпте как князь, — вообрази, что бы сделал для потомства! Ни один час твоего времени не был бы потерян... Тогда бы не надобно другой жизни!.. Боже мой, чего бы можно было тогда еще желать на сем свете?.. Напиши одно слово — и я уберу комнаты как игрушку, — право, оживу опять. Милый, милый друг, не променяй настоящего счастья на тень его». На это Жуковский просто не в силах был отвечать что-нибудь... Ему делалось страшно... Он ощущал себя чуть не убийцей...
Он уходил в работу...
Его привлекала повесть Фуке «Ундина» (Фуке Жуковский причислял к самым оригинальным творческим гениям Германии). «Что ваша русская «Ундина»? — спрашивает его Елагина в письме от 26 июля. — Жаль, если вы эту мысль бросили... Напишите «Ундину» или что-нибудь такое же, где много неопределенного, тайного, неизвестного, горестного, мечтательного, похожего вместе и на душу и на жизнь». На столе у Жуковского лежали «Метаморфозы» Овидия... Вечером он читал их, а ночью слышался ему глухой рев бури и печальный крик ласточки — Гальционы... Тело Цеикса, принесенное волнами, бьется о камни... Сколько страдания в мире!
Батюшков пишет из Неаполя: «От тебя не имею ни строчки. Думаешь, милый друг, легко быть забытым тобою?» Он болен, купается в минеральных источниках на Искии в виду Неаполя и Везувия. «Наслаждаюсь великолепнейшим зрелищем в мире: предо мною в отдалении Сорренто — колыбель того человека, которому я обязан лучшими наслаждениями в жизни (Тассо); потом Везувий, который ночью извергает тихое пламя, подобное факелу; высоты Неаполя, увенчанные замками, потом Кумы, где странствовал Эней или Вергилий; Байя, теперь печальная, некогда роскошная; Мизена, Пуццоли и в конце горизонта — гряды гор... В стороне северной... весь берег, протягивающийся к Риму и исчезающий в синеве Тирренского моря... Посреди сих чудес, удивись перемене, которая во мне сделалась: я вовсе не могу писать стихов». Письмо тревожное: «Здоровье мое ветшает беспрестанно... оно, кажется, для меня погибло невозвратно... Италия мне не помогает». Это был закат Батюшкова — пышный и мучительный... Поэзия его погасла. Душа его металась в тоске, сопротивляясь быстро надвигающемуся мраку.