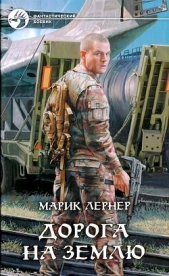Ваятель фараона
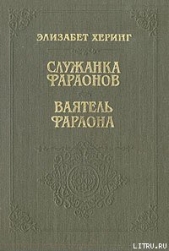
Ваятель фараона читать книгу онлайн
Книги Элизабет Херинг рассказывают о времени правления женщины-фараона Хатшепсут (XV в. до н. э.), а также о времени религиозных реформ фараона Аменхотепа IV (Эхнатона), происходивших через сто лет после царствования Хатшепсут.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
– Нежно за руку? – переспрашивает Ипу, которому Тутмос показывает набросок картины. – Разве ты не слышал, о чем судачат в городе? Говорят, что Эхнатон и Нефертити поссорились. Поссорились потому, что царь хочет выдать свою четвертую дочь, Нефернефруатон, замуж за сына вавилонского царя Буррабуриаша.
– Царевну нашей страны на чужбину? – переспросил пораженный Тутмос. С того времени, как стоит мир, этого еще никогда не было!
– Да, потому-то Нефертити так и удручена. Отдать на такой позор одного из своих детей. Но Эхнатон считает, что другим путем он не укрепит союза с вавилонским царем. Между тем царь хеттов год от года становится сильнее. Он уже нанес поражение Тушратте, союзнику нашего царя, и опустошил все его царство.
– Эхнатон и Нефертити поссорились! Значит, на картине мне нужно заменить интимный жест другим?
– О чем ты думаешь? – ответил Ипу. – Ведь при дворе больше всего опасаются, чтобы весть о ссоре не распространилась.
– А откуда же узнал о ней ты?
– Ну, знаешь, стены дворца, если они даже возведены из гранитных блоков, менее плотны, чем стены хижин из камыша. Об этом говорят уже давно. Мне лишь подтвердил этот слух Кар, один из мелких писцов Туту, племянник Бака, часто бывающий в нашем доме. Он сам видел письмо, которое Буррабуриаш отправил нашему царю. В этом письме вавилонянин пишет: «Госпоже твоего дома я послал только двадцать колец-печатей из лазурита, потому что она не сделала ничего такого, за что я был бы должен ее одаривать. Она даже забыла справиться о моем здоровье, когда я был болен!» Ну, что ты скажешь? Разве такими должны быть отношения между родственниками? И разве Нефертити, оттолкнув будущего свекра своей дочери, не дала понять, что не согласна с намерением своего супруга?
Немало времени потребовалось Тутмосу, чтобы ощутить сердцем все это. На душе у него было безрадостно.
Еще один вопрос заставил скульптора ломать голову: как отделать саркофаг царевны? До сих пор было принято изображать на четырех углах наружного каменного гроба богинь-охранительниц, которые своими распростертыми руками защищают мумию. Не следовало ли ему вместо них изобразить мать умершей в торжественном убранстве богини со змеями и перьями на голове, изобразить Нефертити, защищающую распростертыми руками свое дитя?
Эту мысль он тоже обсудил с Ипу. Наконец между двумя домами утвердился мир, так что он мог, не опасаясь вызвать раздражение у Бакет, навещать своего друга. Когда умерла Тени – она пережила Эсе всего на один год, – к Тутмосу вместе с Ипу без всякого приглашения пришла жена друга, чтобы занять место у гроба покойной.
– Мой отец тоже больше никогда не вернется, – сказала Бакет глухим голосом Тутмосу, когда тот ей поклонился.
«Ипу в конце концов уговорил ее не относиться ко мне с предубеждением», – подумал он, и камень свалился с его сердца, потому что нет более тяжелого бремени, чем бремя горечи и вражды.
Маленькая Иби безбоязненно перешла с рук своей няньки к Бакет и позволила ей приласкать себя. И стоило Бакет отойти, как она снова протягивала к ней свои ручонки. А когда Иби чуть подросла, Бакет, заметив ее где-либо, часто тащила к себе, соблазняя всякими лакомствами. Однажды Ипу прямо спросил, не хочет ли Тутмос отдать обоих лишившихся матери детей на попечение его жены. Тутмос почувствовал, что это был скорее не вопрос, а просьба, и что исходит она от Бакет. Как мог он отказать в этом ей, бездетной?
Так между обеими семьями наконец был проложен мост, и оба друга могли делиться всем, что их волновало.
Что их волновало? Прежде всего общее большое горе. Бакет первая заметила, что Иби никак не реагирует на звуки. Она скрыла это и от Тутмоса, и от Ипу, боясь их огорчить. Однако в конце концов и мужчины обратили внимание, что малышка не начинает говорить. Она живо смотрела своими глазенками на все происходящее вокруг, несла своей названой матери веретено, когда видела, что та садится за прялку; хватала ее за платье и показывала пальчиком на свой рот, когда была голодна, но из уст ее раздавались лишь нечленораздельные звуки. Тутмос первый наконец сказал: она нема.
Не его ли это вина? Не он ли закрыл от нее мир звуков, когда швырнул ее мать наземь?
Никто ничего не мог сказать Тутмосу, даже врач, сам Пенту. Но собственное сердце отца упрекало его каждый раз, когда ребенок молча смотрел на него своими большими глазами. И Тутмос стал пробовать возместить дочери то, что было у нее отнято, ибо она видела все, что освещает Атон своими лучами; для нее существовали краски, формы – вся красота мира.
Часами сидел Тутмос подле нее и рисовал цветы и птиц, детей, собак и кошек. А она! Когда он нарисует ей птицу – начинает шевелить ручками, словно хочет взлететь; когда нарисует цветок – делает такие движения пальчиками, точно хочет его сорвать; когда увидит изображение собаки начинает ползать на четвереньках.
В конце концов с помощью рисунков они стали понимать друг друга и обмениваться впечатлениями. Никому, кроме их двоих, не были понятны эти рисунки.
И когда Тутмос работал над саркофагом юной царевны, ощущал он горе Нефертити в своем собственном сердце.
Горе Нефертити.
Но что тяжелее? Видеть свое дитя погруженным в вечное молчание, знать, что оно находится там, где никакое горе, никакая боль, никакой вопль не будут услышаны? Или вообще потерять своего ребенка, безжалостно вырванного из жизни? Знать, что оно находится в повозке, которая везет его в такие дали, где страдания всего мира могут разорвать сердце, где мать не может ни защитить, ни хотя бы утешить своего ребенка. Или, наконец, хоть и иметь дитя неподалеку, но знать, что оно отдано на произвол таких людей, которые способны восстановить его против собственной матери так, что их сердца станут дальше друг от друга, чем северные страны от южных?
Что происходит за стенами дворца? Там должны царствовать молодость, счастье и сердечный мир до тех пор, пока белый лебедь не станет черным, а черный ворон – белым!
Почему же Нефертити не сопровождает больше своего супруга во время его поездок в великолепной, украшенной лазуритом и золотом колеснице? Почему она не показывается вместе с ним на балконе, когда Эхнатон милостиво награждает своих фаворитов (что в последнее время он стал делать все реже и реже?
И правда ли, что Нефертити поссорилась с царевичем Сменхкара, супругом ее старшей дочери – Меритатон? И что другая ее дочь, Анхсенпаатон, выступила против матери и пытается отдалить ее от отца?
А Эхнатон? Почему сделал он зятя чуть ли не соправителем?
Хотя так и принято, что старый царь заботится о своем преемнике, но Эхнатону ведь лишь немногим больше сорока лет!
Оказалась ли ноша, которую он взвалил на себя, возбудив к себе ненависть народов, столь тяжела, что он не может дождаться, когда сумеет переложить ее на другие плечи?
Или он чувствует, что смерть касается его своим крылом?
В городе стояла удушающая жара. Тутмос вышел на порог своего дома, чтобы посмотреть, не стало ли багряным небо на юге или на западе и не приближается ли песчаная буря? Скульптор долго стоял на ступеньках, прикрыв ладонью глаза от солнца. И вдруг на окаймленной деревьями дорожке, ведущей от ворот к дому, он увидел какого-то человека.
По одежде сразу же можно было узнать, что это не египтянин. Тело его было завернуто в доходившую до лодыжек пестротканую накидку. Значит, этот человек был из северных стран. Какое дело могло привести его к скульптору?
Тутмос спустился на несколько ступенек вниз навстречу чужеземцу. Тот скрестил руки на груди, низко склонился перед ним и сказал:
– Мир тебе! Это ли тот дом, в котором живет Уна, писец Туту?
Острая боль пронзила сердце Тутмоса.
– Войди, – сказал он, не отвечая на вопрос. Он провел гостя в переднее помещение. По его знакам прибежал Шери, снял с ног чужеземца сандалии и попросил его подойти к вырубленному в камне углублению, где омыл водой его руки и ноги и осушил их полотенцем. Только тогда Тутмос ввел освеженного омовением чужеземца в большой зал, усадил на мягкую табуретку, распорядился поставить перед ним обеденный столик и стал угощать его свежими фигами и холодным кислым молоком, которое хорошо охлаждает пересохшее от жары горло.