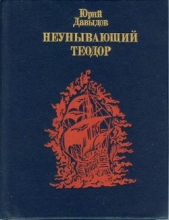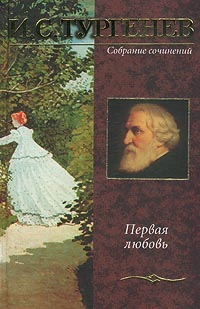Соломенная Сторожка (Две связки писем)

Соломенная Сторожка (Две связки писем) читать книгу онлайн
Юрий Давыдов известен художественными исследованиями драматических страниц истории борьбы с самодержавием и, в особенности, тех ситуаций, где остро встают вопросы нравственные, этические. Его произведения основаны на документальных материалах, в значительной степени почерпнутых из отечественных архивов.
В настоящем издании представлен полный текст романа, посвященного в основном выдающемуся русскому революционеру Герману Лопатину.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Жираков, дюжий верзила, подстриженный в скобку, с красной рожей лабазника, самодовольно ухмылялся. На лицах канцеляристов лежала печать жадного азарта, как в игре, когда вот-вот сорвут банк. Посреди комнаты поставили тяжеленный, на клею и шипах, табурет. Сашка легким, даже как бы и нежным движением извлек из ящика свой «инструмент». То была длинная, круглая, гладкая ручка; к одному концу ее тонкими ремешками прикреплялось железное кольцо; от этого кольца начинался ременный цилиндр, на свободном конце которого тоже поблескивало железное кольцо; от него шли три плетеных хлыста, похожих на нагайки; постепенно утончаясь, они на самом хвостике, диаметром с мизинец, имели что-то вроде твердой, как кость, пуговицы из сыромятной кожи.
– Ну, Сашка!
Жираков двинулся к табурету широким, ровным шагом, бойко, по-петушиному подскочил, размахнулся и ударил – крышка табурета разлетелась вдребезги, ножки треснули и переломились… Зрители ахнули: «Ну, сволочь! Ведь как ляпнул-то, а?!?!» И вдруг будто осели, примолкли, потом кто-то выдохнул: «Не приведи господь…» Сашка Жираков осклабился. Ему дали рубль.
Своя кнутобойная концепция выработалась у этого Сашки Жиракова. Экзекуции он всегда начинал прежестоко. Я как-то спросил: «Неужели тебе не жаль человека, в особенности женщину?» Он взглянул на меня как на несмышленыша. «Вестимо, жаль, ваше благородие. Чай, не скотина. Потому и бьешь попервости без пощады». – «Не понимаю, Жираков, объясни». – «Эк, «не понимаю»… Оченно даже просто, ваше благородие, только вы уж не выдавайте. Не от меня ж, ваше благородие, в зависимости, какую баню задать. Иной начальник отвернется, валяй, мол, как бог на душу положит, а иной… Иной, ваше благородие, остервенится, у него от криков в голове чтой-то лопается. А кровь пробрызнет – и вовсе с кулаками на тебя лезет: «Бей шибче, сукин сын!» Чистая беда, как крик да кровь остервеняют… А мне, ваше благородие, человека завсегда жаль, особливо бабу, ну, я сразу-то и оглушу, чтоб ум вылетел, как из бочки затычка, чтоб в полное, значит, бесчувствие привесть. И вот – молчок, тихо, ни крика, ни стона, ровно чурбан. А дальше уж и мажешь, фальшь задаешь. Тоже и мы люди, ваше благородие, имеем совесть. А ежели б завсегда на всю мочь, на всю силу, так, вот крест, ни единый не выжил бы».
Я не знал, останется ль в живых Иван Непомнящий, 57-ми лет от роду, но знал, что смотритель Одинцов не из жалостливых, не отворачивается.
Около двух пополудни мы с фельдшером Меньших приехали в Верхне-Карийскую тюрьму. В канцелярии уже собралось с десяток чиновников. Смотритель Одинцов, одутловатый господин в сюртуке с желтыми пуговицами, сидел за столом. Черные жесткие волосы топорщились, толстые губы мечтательно улыбались, узкие глаза быстро, как у ящерицы, задергивались веками.
– А, – сказал он басом, – вот и доктор. Здравствуйте, здравствуйте. Э, да и Иван Палыч с вами, ну и отлично, старый воробей, усовершенствованный… Ха-ха-ха, усовершенствованный… А вы, доктор, слыхал, еще и не видывали, как у нас розгачами-то? Комедия, ей-богу. И поучительная, доктор, для этих-то подлецов. Иначе нельзя-с. – Он посмотрел на помощника, плешивого старичка с табачными крошками в усах. – Все ли готово, Алексей Алексеич?
Помощник отвечал утвердительно.
Восемьсот каторжан без шапок стояли на дворе двумя полукружьями. Выло свежо и солнечно. На сизой, обритой половине арестантских голов, казалось, поигрывали тени. Никто не произносил ни слова. Перед пустой скамьей для экзекуции, взяв «на плечо», стояли казаки.
Вывели приговоренного. Он едва волочил ноги. Его лицо искажалось судорогой, синие губы шевелились. Потом он уронил голову, сделался совсем маленьким, совсем стареньким и тоненько вскрикнул: «Не вынести, ох не вынести…» Я почувствовал дурноту, фельдшер незаметно сунул мне склянку с нашатырным спиртом.
Четверо арестантов, товарищи осужденного, выскочили из толпы, подхватили Непомнящего, сволокли халат, растянули на скамье, порты сдернули до колен, рубаху заворотили – все это в мгновение. И привалились грудью – двое на голову и руки, двое на ноги.
Тем же широким, мерным шагом, каким он шел в канцелярии к табурету, палач двинулся к осужденному и, припрыгнув по-петушиному, гаркнул: «Берегись! Ожгу!» Раздался удар. Наперед зная, какая «баня» требуется смотрителю Одинцову, Сашка не вышиб дух из Непомнящего, и тот взвыл пронзительно, тонко, высоко: «О-о-о-о-о…» Три сине-багровых полосы вспухли и засочились кровью на его жалкой, серой плоти. Это тонкое, пронзительно-высокое «о-о-о» зазвенело и отдалось в моей душе криком не здешним, не теперешним, не криком осужденного, а детским, Николушкиным, моего двухлетнего братца… Я все видел, я слышал удары плети и как отсчитывают громко: «Восемь… десять… шестнадцать…» – и в то же время меня словно и не было на дворе Верхне-Карийской тюрьмы. В уме моем неслись несвязно, вперемежку: мужики, схватившие Николеньку, грязь и лужи, блеск церковной луковки на солнышке, и белые льдины на синей речке, и опять мужики, но уже без Николеньки, они отца тащат, рвут на нем рясу… И вдруг выплыл брюхом смотритель Одинцов и – как в колокол: «Ну, доктор, пора выпить и закусить».
Осужденного укладывали на телегу. Фельдшер наклонился над ним. Я подошел, взял руку Непомнящего. Пульс был нитевидный, еле-еле; огромные, дикие, красные, бессмысленные глаза выкачены из орбит; в груди хрипела, урчала и булькала мокрота; губы и горло корежили позывы к рвоте. «Не извольте беспокоиться, я справлюсь», – шепнул Иван Павлович. Телега тронулась, Непомнящего повезли в лазарет, а я покорно, машинально, как деревянный, пошел за смотрителем Одинцовым.
Одинцов жил на холостую ногу. Ему прислуживала ядреная, круглая молодая баба; в каторгу она пришла за убийство мужа. Одинцов щелкнул пальцами, бабенка просыпала бойкий смешок: «Сичас, барин».
Мы выпили, потом еще и еще.
– А что, Петр Петрович, – сказал я, – подлейшее положение у нашего брата?
Он спокойно пожал плечами.
– Чего же тут подлого, доктор? Мерзавец получил по заслугам. Это так, по вашей свежести, а поживете и согласитесь: иначе невозможно. У них, там, – он неопределенно махнул рукой, – за горами, за долами, за морями-океанами, там дело другое, а у нас… – Он рассмеялся.
Не захмелев, совершенно трезвый, я приехал к себе в лазарет поздним вечером. Непомнящий лежал в палате. Пульс был сто сорок, температура выше сорока. Темно-бурая опухоль величиной с подушку была на ощупь горячей и твердой. Он лежал на животе, отворотив вполовину обритую голову с всклоченной бороденкой. Он был в забытьи.
Я отпустил служителя. Горела сальная свеча, вставленная в жестяной фонарь. На дворе раздавалось: «Слу-у-ша-а-ай».
И вдруг в ушах моих опять прозвенело давешнее «о-о-о», и опять примерещился младенец Николушка.
Детство мое, до бурсы, прошло в селе Крестовском, Камышловского уезда: Кокосовы, землеробы и пчеловоды, некогда переселились из Владимирской губернии в Пермскую. Дед и отец, священники, крестьянствовали, как и многие деревенские батюшки.
В какой-то год, еще до Крымской войны, вышло распоряжение о принудительном разведении картофеля. Мужики, государственные крестьяне, решили, что наступает закрепощение, что вот-де уже и указ, «грамота» получена, и кинулись «тормошить начальство». А какое ж начальство было рядышком, как не священник да волостной писарь?
Отец мой с притчем и писарем успели затвориться в церкви. Мужики, бушуя, ворвались в наш дом. Мать прижимала к груди двухлетнего Николушку. Она страшно кричала, рвалась и билась, но мужики выломили из ее рук Николушку, побежали всей толпой к церкви и там принялись хлестать голенького вожжами. Николушка закричал: «О-о-о… О-о-о…» Отец вышел из храма, за ним – другие.
Мужики бросили Николушку, схватили отца, всех схватили и, срывая одежду, поволокли к речке… Был зачин весны, свежо было и солнечно, белые льдины плыли по Крутихе. Отца, и дьячка, и писаря обвязали веревками. Двое иль трое наших соседей переправились на другой берег, волоча за собою конец веревки. Началась расправа. Отца моего, дьячка и писаря поочередно спускали в ледяную воду и тащили к противоположному берегу при дружном крике: «Давай гра-мо-ту! Да-вай гра-мо-ту!» Туда и назад, туда и назад, челноком, челноком. Отогреют в ближней избе и опять, и опять.