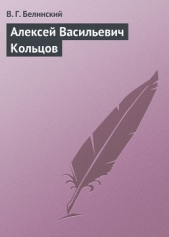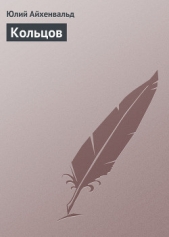Кольцов

Кольцов читать книгу онлайн
Проникновенный русский лирик Алексей Кольцов прожил короткую, но полную красоты и драматизма жизнь. На страницах книги предстанут образы известнейших современников поэта, которые по достоинству оценили явление самобытной кольцовской лирики.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Вот как через много лет, уже в 1840 году, Кольцов выговаривает в письме Белинскому за ведение сельскохозяйственного отдела в «Отечественных записках»: «А хуже всего „Сельское хозяйство“: оно вовсе не по журналу, и особенно какого-то дурака напечатана статья о покраже хлеба и мере – гадость гадостью. Да и все статьи не шибкие. Эти господа агрономы напичканы иностранными теориями и принятыми методами тридцатого года, которые во мнении начали упадать, кроме метод: сахарной, машинной и мануфактурной. На сельское русское хозяйство надо смотреть по-русски, а не по-немецки. Немецкие методы нам не годятся, и их орудия – не наши орудия».
Еще далеко впереди будет докучаевское почвоведение и еще дальше заботы Мальцева и опыты Бараева и споры об однолемешном плуге, а поэт Кольцов пишет тогда критику Белинскому: «Наш чернозем любит соху, а чтобы улучшить соху, надо улучшить руки людей, которые ею работают. Дело и в орудии, но дело и в умении управлять им. Можно и на одной струне играть хорошо, а глупец и на четырех уши дерет».
Хорошо знали Кольцовы и лесное дело, будучи, говоря современным языком, лесозаготовителями. Отец содержал в Воронеже большой дровяной склад, двор, как тогда говорили. Постоянно занимался заготовкой леса и сын.
Кроме того, ведутся так называемые шибайные дела по продаже овчин, кожи, шерсти. Кольцов с десяти лет был в круговороте всей этой сельскохозяйственно– промышленно-торговой работы. «Батенька, – сообщает он Краевскому уже в 1836 году, – два месяца в Москве продает быков. Дома я один, дел много: покупаю свиней, становлю на винный завод на барду; в роще рублю дрова, осенью пахал землю; на скорую руку езжу в селы, дома по делам хлопочу с зари до полночи».
В «селы» ездили постоянно, на скорую руку и не на скорую, подчас на много месяцев, и села эти были разными и на обширном пространстве: ближние и дальние уезды Воронежской губернии, лесные и степные, русские и украинские, Донская область и дальше на юг к предгорьям Кавказа, и в стороне, где степь «к морю Черному понадвинулась», и там, где «пораскинулись» степи приволжские. И туда забирались воронежские прасолы. В очень-то дальние места даже с зимы, отгоняя затем весной к дому гурты – сотни голов рогатого скота и тысячные овечьи ватаги.
И основное занятие Кольцовых все-таки прасольство, скотопромышленные дела. В ряду двух десятков воронежских прасолов тридцатых годов Василий Петрович был из главных. «Прасол – поясом опоясан, сердце пламенное, а грудь каменная», – с явным сочувствием говорит о прасолах местная поговорка. «В самом деле, – рассказывает М.Ф. де Пуле, – в занятиях и в образе жизни прасола было много увлекательного, выдающегося, много было трудов и опасностей, одно преодоление которых уже закаляло характер человека. В прасольстве было много казацкого, удалого, что так нравится русскому человеку. Прасол прежде всего лихой наездник. Он вечно на лошади, на лихом донском коне, который смело перепрыгивает через овраги, плетни, через всякую деревенскую огорожу и несется вихрем в степях. Прасол такой же джигит, как казак, он на скаку хватает руками землю и бросает ею в деревенских красавиц, любующихся его удалью, он не остановится ни перед каким барьером. Он и одет по-казацки – в черкеске и в широких шароварах, опоясан ременным поясом с серебряными украшениями, на голове у него барашковая шапка. У него и походка и фигура чисто казацкие: сутуловатый, он ходит увальнем, с перевалкой и как бы с вывернутыми ногами».
Белинский вспоминал, явно по рассказу Кольцова, как тот однажды еще юношей перелетел на всем скаку через голову коня. И здесь его спасло на редкость крепкое здоровье. Сутуловатая фигура Кольцова была фигурой именно казака, кавалериста. И всякую животину он любил и, так сказать, чувствовал, ощущал, вплоть до веры в «сглаз». Хороший человек и на скотину хорошо действует, плохой и ее может «сглазить». «Эфто бывает», – передавал брат Николая Станкевича Александр совершенно по этому поводу убежденное мнение Кольцова.
Да вряд ли и могло быть иначе у человека, большую часть времени живущего со своими стадами. «Летом, во время нагула скота по полям и степям, истый, любящий свое дело прасол был почти постоянно если не в восторженном, то в возбужденном, приятном состоянии духа. Такой прасол жил жизнью своего стада, своего гурта или ватаги. По рассказам прасолов, ни с чем нельзя сравнить той чудной картины, какую представляет степь перед утреннею зарею, когда покоящееся стадо вдруг, как бы по мановению какого волшебника, издает отрывистый, глубокий вздох, предвестник пробуждения, когда начинает синеть темное небо и туманиться бесконечная даль» (М.Ф. де Пуле).
Кольцов действительно жил, как скажет он в одном раннем наивном стихотворении, «среди природ». Он действительно жил в природе. Для поэтической натуры трудно было бы придумать более полное, разнообразное, насыщенное воспитание самой природой, особенно степью. Эту-то степную стихию Кольцова ощутил Белинский, может быть, с тем большей остротой, что сам он во всей жизни своей был ее лишен: «…Его юной душе полюбилось широкое раздолье степи. Не будучи еще в состоянии понять и оценить торговой деятельности, кипевшей на этой степи, он тем лучше понял и оценил степь, и полюбил ее страстно и восторженно, полюбил ее как друга, как любовницу. Многие пьесы Кольцова отзываются впечатлениями, которыми подарила его степь. Почти во всех его стихотворениях, в которых степь даже и не играет никакой роли, есть что-то степное, широкое, размашистое и в колорите и в тоне. Читая их, невольно вспоминаешь, что их автор – сын степи, что степь воспитала его и взлелеяла. И потому ремесло прасола не только не было ему неприятно, но еще и нравилось ему: оно познакомило его с степью и давало ему возможность целое лето не расставаться с нею, он любил вечерний огонь, на котором варилась степная каша; любил ночлеги под чистым небом, на зеленой траве, любил иногда целые дни не слезать с коня, перегоняя стада с одного места на другое. Правда, эта поэтическая жизнь была не без неудобств и не без неудовольствий, очень прозаических. Случалось целые дни и недели проводить в грязи, слякоти, на холодном осеннем ветру, засыпать на голой земле, под шум дождя, под защитою войлока или овчинного тулупа. Но привольное раздолье степи, в ясные и жаркие дни весны и лета, вознаграждало его за все лишения и тягости осени и дурной погоды».
Белинский же недаром называл степь и первой «школой жизни» для Кольцова, ибо изучение действительности во многом началось здесь же. Наверное, не случайно именно в степи Кольцов по какому-то наитию разом – как током ударило – ощутил себя поэтом. Авдотья Яковлевна Панаева, тогда жена писателя Ивана Ивановича Панаева, вспоминала: «Раз Кольцов пил у нас чай; кроме него, были только Белинский и Катков. Кольцов был очень разговорчив и, между прочим, рассказывал, как первый раз сочинил стихи. „Я ночевал с гуртом отца в степи, ночь была темная-претемная и такая тишина, что слышался шелест травы, небо надо мною было тоже темное, высокое, с яркими мигающими звездами. Мне не спалось, я лежал и смотрел на небо. Вдруг у меня стали в голове слагаться стихи; до этого у меня постоянно вертелись отрывочные без связи рифмы, а тут приняли определенную форму. Я вскочил на ноги в каком-то лихорадочном состоянии; чтобы удостовериться, что это не сон, я прочел свои стихи слух. Странное я испытывал ощущение, прислушиваясь сам к своим стихам“.
Конечно, все это вспоминалось через много лет, все это не простая запись рассказа Кольцова, передан сам рассказ обычным литературным языком (Кольцов писал и говорил иначе). Но, без сомнения, точно – не подделаешь – передано ощущение того, что называют словом «сошло», то состояние, которое существует в большом органичном поэте как бы уже вне его и само по себе, а самого поэта делает человеком не от мира сего. Людьми простого здравого смысла так это и воспринималось, казалось чем-то вроде сумасшествия. Кольцовские приказчики вспоминают: «Малый-то он ничего был… да, знаете, чудаковат был: в сочинители записался. Где бы делом заняться, а он песни сочинять» (А.В. Попов). «Бывало летом, в степи, особенно по вечерам, при солнечном закате, уже смеркаться начнет, а он, сердечный, и ну писать и ну писать. Я его – „Некоей Васильевич! Лексей Васильевич! Куды тебе, не слышит, глядит как истукан. В ту пору совсем чудаком глядел“ (Зенфиров).