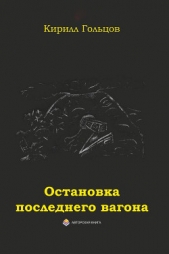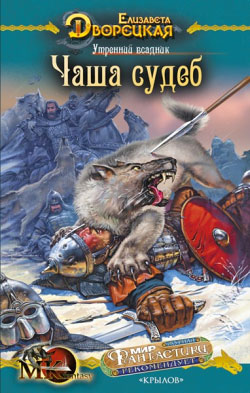Екатеринбург, восемнадцатый
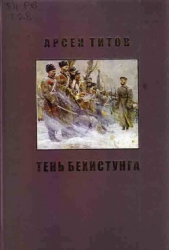
Екатеринбург, восемнадцатый читать книгу онлайн
Роман известного уральского писателя Арсена Титова "Екатеринбург, восемнадцатый" — третья часть трилогии «Тень Бехистунга». Перед вами журнальный вариант этого романа, публиковавшийся в № 11, 12 журнала «Урал» 2014 г.
Действие трилогии «Тень Бехистунга» происходит в Первую мировую войну на Кавказском фронте и в Персии в период с 1914 по 1917 годы, а также в Екатеринбурге зимой-весной 1918 года, в преддверии Гражданской войны.
Трилогия открывает малоизвестные, а порой и совсем забытые страницы нашей не столь уж далекой истории, повествует о судьбах российского офицерства, казачества, простых солдат, защищавших рубежи нашего Отечества, о жизни их по возвращении домой в первые и, казалось бы, мирные послереволюционные месяцы.
Трилогия «Тень Бехистунга» является одним из немногих в нашей литературе художественным произведением, посвященным именно этим событиям, полным трагизма, беззаветного служения, подвигов во имя Отечества.
В 2014 году роман-трилогия удостоен престижной литературной премии «Ясная поляна».
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Как же населили? Кто? — спросил я, хотя еще из письма сестры Маши мне в корпус в Персию знал, что населили эвакуированных, что они ничего не берегут, а на замечания грозят донести власти. Так их нынче учат.
— Утром я выхожу, — не слыша меня, вскричал Иван Филиппович, — выхожу, а он прямо с крыльца ладит! Я ему лопатой в загривок! Да где! Ведь увернулся! Ведь верткий, собака такой, и мне кричит, дескать, он след-от заметет, а то, кричит, тебя, старика, прямо сдам в Совет, будешь знать, как на советского работника орудие поднимать!
— Да кто же, Иван Филиппович? А Маша где? А Иван Михайлович где? — снова спросил я.
— А кого советный работник! Како совето они подадут, когда сами до дыры сходить не научились, когда сами по совету да ладу одного дня не живывали! — не слушал меня Иван Филиппович.
— Да Иван же Филиппович! — пошел я мимо старика во двор.
— Живут, а хоть бы кто двор почистил! Совето они, видишь ли! — пошел за мной Иван Филиппович.
Несмотря на топтанные собаками и политые помоями где ни попадя сугробы, загромоздившие двор, он мне показался пустым. Я приостановился. Иван Филиппович ткнулся мне в спину.
— Во-во! Чего натворили! — сказал он.
Я увидел, что во дворе нет двух старых лип.
— Кончили! Как пошла свобода, как дров не стало, так и кончили! На Шарташской станции дров этих жечь не пережечь! Дак где же! Оттуда ведь надо везти! А они ведь совето! Ныне осенью и кончали! Всем гамузом свалили да, почитай, Борис Алексеевич, так и бросили! Вон ветки из сугробов торчат! Разве же липа — дрова! Да сырая! Нешто она им гореть будет, дуракам! Она поумней их будет, дураков! Так и греются тем, кто сколь напердит! А я сказал: вы Божии лесины кончали, вам и издохнуть от холоду! Так меня опять хотели во власть отвести! А туда поведут, так по дороге застрелят, как вон какого-то присяжного на днях застрелили! Повели, да лень вести было — и застрелили! — снова запричитал Иван Филиппович.
И вот только сейчас, наверно, оттого, что вместе с липами исчез двор моего детства, я до ломоты в костях почувствовал свое одиночество. Из всего того, чем я жил, у меня ничего не осталось. Василий Данилович Гамалий, Коля Корсун, все другие мои сослуживцы, вестовой Семенов, да даже Валерия, даже лошадь моя Локай составляли то, чем я жил и хотел бы жить до скончания века. Но оно, это все, осталось где-то позади, и безвозвратно позади, осталось так бездарно мной растранжирено, что вернуться к нему я не мог. Я смотрел на изгаженный двор и не понимал, зачем я сюда вернулся, зачем все это, что было сейчас передо мной. Я понял, сколько я просто неумный человек, а сколько я вообще никто, если позволил обойтись с собой так, как вышло, — если я позволил какому-то комитету с его товарищами Сухманами и Шумейко отчислить меня от корпуса, заставить меня лишиться всего, чем я дышал, и притащиться сюда, в подлинную пустыню, в местность с тридцатью золотарями и какими-то советскими работниками в моем дворе детства, в доме моего батюшки.
Перед отъездом из штаба корпуса я получил от Элспет письмо — последнее от нее письмо. Она написала его нашими, совсем чужими для ее пальчиков, но ставшими родными для ее сердца кириллическими знаками. Сразу же за первыми словами о ее любви она стала просить меня перейти на службу в британскую армию, заверяя, что решение принято, что мне только следует согласиться. «Борис, — уверяли меня ее пальчики, — ты не изменишь присяге, не изменишь своей стране. Ты некоторое время будешь офицером его величества короля Георга. И мы будем вместе. А когда у вас в стране снова будет порядок, мы поедем к тебе, в твою и уже мою Россию. Я буду везде и всегда с тобой. Я никогда не вздохну от усталости и сожаления. И, Борис, я…» — дальше было слово, сделавшее нас счастливыми. Она ждала от меня ребенка. Этого письма у меня тоже не было. Пока я сидел в ташкентской тюрьме, его уничтожил сотник Томлин.
— По двум причинам, — сказал он. — По первой причине, чтобы тебя не шлепнули как британского шпиона. По второй причине, курить было охота как из ружья!
Ничего этого теперь у меня не было. Со злым счастьем я пошел в дом, завернул к крыльцу и увидел, что в нашем небольшом саду, выходящем на улицу Вторую Набережную, не было старой раскидистой китайской яблони.
— Тоже они? — спросил я.
— Оно, совето! — выдохнул Иван Филиппович.
Он выдохнул, а воздуха не стало хватать мне. Я заступил одной ногой на ступеньку и оперся на перила. Прямо у меня перед глазами был сугробец действительно со следами того, о чем говорил Иван Филиппович, а дальше был разломанный забор в сад без китайской яблони.
— И нет ни околоточного, ни пристава! Шастают только патрули, так им не попадайся! — еще сказал Иван Филиппович.
— И нет никого! — сказал я себе.
— Никого нет! — услышал Иван Филиппович. — И что с ними, один Бог ведает. Мне поехать к ним — не с руки дом на этих оставить. А им поехать сюда — так небось живых-то нет! Небось арестовали да застрелили, как этого присяжного! Я ведь по ночам плачу. Днем с этими воюю. А по ночам-то молюсь да плачу!
— За что же арестовывать? Иван Михайлович — агроном, совершенно нужный любой власти человек! — в прежней пустоте сказал я.
Описывать беспорядок и грязь в доме уже нет смысла — они равнялись тому, что было во дворе. В больших комнатах родительской спальни и батюшкиного кабинета жили две семьи, мою комнату заселял какой-то чернявый тип лет двадцати от роду. Комната Маши и гостевая комната были загромождены имуществом, какое Иван Филиппович сумел спасти. Семейные жильцы не поздоровались со мной, поджались и закрылись у себя в комнатах. Потом один вынес какую-то бумагу.
— Вот, у нас вид на жительство в этих комнатах от новых властей! — сказал он.
А тип, оказавшийся советским работником, собирался в учреждение и пил кипяток с сухарями.
— Служу в горпродкоме, а питаюсь вот так! — сказал он, помолчал и, глядя на мои солдатские сапоги, прибавил: — Я в партячейке состою. Буду снова проситься на Дутовский фронт! — еще помолчал, видимо, пождал моей реакции. Я молча оглядывал комнату во всем невероятном ее безобразии. Он снова посмотрел на мои сапоги. — Я в таком отношении к членам партии оставаться не могу, мне на организм влияет! — сказал он и, видимо, в качестве советского служащего, перед которым я был никто, прибавил: — А тебе, товарищ, как бывшему военнослужащему надо встать на учет. Это надо сходить в управление уездного воинского начальника на Водочную улицу!
Иван Филиппович не выдержал.
— Да уж Борис Алексеевич знают, что и куда! Они Отечество защищали, пока ты тут с крыльца двор метил! — в язве сказал он.
Тип молча отвернулся.
В гостиной комнате, служащей проходной для всех остальных комнат, я спросил Ивана Филипповича принять ванну. Оказалось, еще год назад он позвал слесаря и отвинтил трубы — разумеется, чтобы ею не пользовались новые жильцы. Я спросил про городские бани.
— На Исети в проруби толку будет больше! — в злорадстве махнул он рукой, а потом показал в сторону жильцов: — Эти разбредутся, я с чердака дровишек достану и нагрею воды корыто! — и сладострастно хихикнул, будто сделал большую и долгожданную гадость.
Я пошел в комнату Маши, не раздеваясь лег на маленький диванчик в надежде побыть одному и подумать, что мне делать дальше. Но ни о чем подумать я не успел. Я тотчас заснул. Сквозь сон я слышал, как Иван Филиппович ругался с жильцами, говорил, что вернулся хозяин, что теперь-то им будет куда с добром. Я хотел проснуться, выйти и сказать Ивану Филипповичу втихомолку, чтобы он не ругался и уж тем более не говорил, кто я. Но проснуться я не мог. Через какое-то время я опять услышал разговор Ивана Филипповича с кем-то из жильцов. Жилец просил Ивана Филипповича помочь ему через меня в каком-то в одном деле, которое его, жильца, поставило в щекотное положение.
— Вы поговорите с вашим официром. Очень щекотное положение! — просил жилец.
Я опять хотел проснуться и предупредить гоношливого старика не болтать лишнего. И опять не мог проснуться и только отметил, что он уже наболтал. Я видел Элспет, мою невенчанную жену, видел рядом нашу будущую дочь, которая была в образе Ражиты, зарезанной четниками шестилетней девочки. Я рвался к ним в Шотландию. Но у меня выходило быть только в Персии, только в бельских лугах или на улицах Екатеринбурга, летних, томных, мягко отражающих свет от тротуарных плит белого известняка. Екатеринбург мнился светлым и красно-белым — по цвету зданий, будто в нем никогда не было черных и серых деревянных строений. И каким-то странным образом на этот Екатеринбург наслаивался Екатеринбург нынешний, непонятно какой, в котором только то и было, что тридцать золотарей.