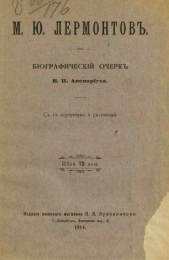Лермонтов
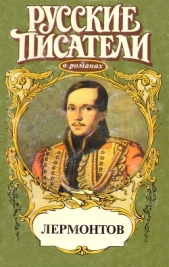
Лермонтов читать книгу онлайн
Произведения, включённые в книгу, посвящены Михаилу Юрьевичу Лермонтову и охватывают всю жизнь великого поэта.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Владимир Фёдорович прикрыл глаза, вслушиваясь.
— Как плавно, как невесомо... Стих способен отрешиться от всякой телесности и звучать, подобно дуновению. Убеждён, что издревле наш язык был намного мелодичнее. Вместе с вольностью он утратил музыкальность: обеззвучилась речь и обеззвучились души...
У многих людей жизнь движется как бы толчками. Между более или менее значительными событиями простирается аморфная масса времени. Нечто пористое, безмолвно засасывающее, наподобие торфяного болота или снежной равнины без начала и конца.
Лермонтов был обуреваем любопытством и энергией. Его ум не мог находиться в праздности. Когда чёрные глаза застывали, а взгляд приобретал ту пугающую тяжесть, о которой спустя десятилетия с содроганием вспоминали современники — потому что им была чужда и непонятна сама природа этого взгляда, — в эти-то мгновения и проявлялась с особой силой стихия лермонтовского провидения.
Неужто он ощущал токи общества как огромный потаённый магнит?! То, чем через год-два должна будет всколебаться отечественная литература, срывалось с его пера, словно предвестие. В 1831 году он написал: «На запад, на запад помчался бы я...» — и кому могло прийти в голову, что стучится в ворота, предупреждает о своей назрелости уже близкое разделение двух непримиримых лагерей: западничества и «славянофилизма»?!
Лермонтов первым произнёс приговор «европейскому миру», чётко осознав его, как «игралище детей» («Измученный в борьбе сомнений и страстей, без веры, без надежд...»).
Раньше других он заглянул в пустоты нигилизма, измерил их взглядом — и отвернулся.
Время, скорее всего, понятие трагическое. Мы постоянно вступаем с ним в единоборство. Пытаемся подогнать, замедлить, переиначить... Оно побеждает нас или мы его? Наивная тщета сопоставить несоизмеримое! Лишь самому большому поэту в короткие мгновения внятен его гул. О, если бы понять, как поэт слышит Время?! Когда включается и почему отключается от него? Впадает в немоту? Ведь он такое же бренное существо, как и все мы. Приблизившись к Поэту, мы хоть краешком заглядываем и в себя...
Несомненно, у Лермонтова было собственное высокое мерило сущего. Он не отступался от него никогда. Его безотчётно притягивало всё безмерно большое: бездна звёздного неба, нелюдимые уступы гор, струение вод к пугающему лону океана. У большинства людей инстинктивный страх перед космическими величинами заложен ещё в клеточках доисторической памяти: как отпечаток прошедших вселенских катастроф и предчувствие будущих. В Лермонтова природа вложила иной закон: не отталкивания, а притягивания, влечения. Не то чтобы он вечно был полон жаждой противоборства, вовсе нет, чаше он жил в полной гармонии своих мыслей и звёздного неба, российских равнин — неоглядных, бескрайних — и собственного, напруженного сгустком молодой готовности к движению ловкого подвижного тела.
Тех, кто сталкивался с ним тогда, он поражал смесью проницательности ума и наивной неоглядчивости поступков. Казалось, он всё знал про других; собственная судьба его не заботила.
Отвага лермонтовских стихов была сродни грозовому разряду в душную безысходно долгую ночь. Молния не возникает сама по себе, её вспышка предопределена.
Но возможность проявить накопленную энергию возникала ничтожно редко. Ведь даже не поклониться «графине Пупковой», как шипел между своими в бессилии и горечи Вяземский, могло быть уже сочтено оскорблением двора. Отступление от правил этикета рассматривалось как неблагонадёжность. Третье отделение вынюхивало любую тень недовольства.
И вот в эту глухую стену, при малейшем намёке на трещину или щель в ней, разил Лермонтов. Он не откладывал вспышку до каких-то иных, более благоприятных моментов. Для него существовал только этот, один-единственный день и то неизбежное мгновение, которое выбрало его своим мстителем.
Поэт не должен бояться Времени. Даже такого гнетущего, перед которым многие отступали шаг за шагом, пятясь назад, уходя в воспоминания, в пору розовых надежд. Лермонтов имел мужество смотреть прямо перед собою.
В средние века, полные смутного алкания истины, было принято выражать идеал в начертании фамильного герба, в кратком девизе при нём. Извечная потребность человека понять собственную суть, закрепив её в символе. Лермонтов, который мыслил весьма чётко и современно даже для более позднего времени, вынашивал любимый им образ Демона. Целое десятилетие этот Демон претерпевал изменения, перемещаясь из абстрактной Испании на высоты Кавказских гор, столь знакомых поэту. Но, меняясь. Демон оставался незыблемым в своей сути — бунтарской и неприкаянной.
Нетерпение Лермонтова представляло ему общественную жизнь в ещё более замедленном темпе, чем это было на самом деле. Перемены рассчитывались ходом истории на двадцать-тридцать лет. Ему оставалось меньше двух.
Мечтая о Марии Щербатовой, он проборматывал про себя стихи, плывя по их звуковому течению:
Наполненность каждой клетки мозга и тела в такие мгновения была сродни быстрому бегу. Бессмертие каждого дня, о котором он всегда мечтал, ощущалось сейчас в нём самом, а не извне. Он слегка удивился этому, потому что обычно связывал понятие действия с чем-то не принадлежащим ему лично, но требующим усилий и завоевания. Может быть, его подстёгивала теперь любовь?
Хотя то, что он принимал за любовь, могло оказаться лишь отсветом чужой жизни, подобно тёплому солнечному лучу. Мария Щербатова с бессознательной щедростью рассыпала вокруг воркующий смех. Её сливовый румянец смуглотой и яркостью выделялся из череды бледных петербургских лиц. Попадая в поле её притяжения, Лермонтов явственнее ощущал самого себя. Всё в нём словно наполнялось светом. Он замечал и впитывал множество мелочей, сердце билось шибче. Он думал: «Любовь! Наконец-то!» Но не замечал, что её-то самое, влекущую Машет, рассматривает — пристально до безжалостности — более пристально, чем весь окружающий их хоровод людей и вещей. В то же время внутренняя пульсация не утихала, его радостно покачивало, вскидывало невидимым гребнем. Он продолжал твердить про себя, упиваясь звучанием слов: «Любовь! Наконец-то!» Воображение уже населяло не будущее их, но прошлое — словно оно на самом деле существовало! Он видел до осязаемости ясно угол какой-то комнаты (потом она оказалась балконом под плоским навесом), бренчал дождь, они были соединены молчанием. Щемило чувство нежности к её полуотвёрнутой щеке... Протекали годы, века — всё то же молчание, всё тот же отведённый в сторону взгляд... Тогда он спохватывался, что привычно думает о Вареньке, её видит внутренним оком. И ликующие певучие слова — «Любовь! Наконец-то!» — увядали сами собою.
Он встряхивал головою, зная, что внезапная омертвелость посреди разговора пугает и отвращает от него людей. Стыдясь и боясь этого, он взглядывал с робостью, но и досадливо на беззаботную Марию, и — о чудо! — либо она ничего не заметила, либо ей польстил мрачный отсутствующий взгляд поэта. Она словно прочла в нём что-то иное, чем все. И в нём снова пробудились благодарные колокольцы: «Любовь! Наконец-то!» Он пытался вернуть ощущение той невидимой нити, которая только что связывала их, двух чужих людей среди мирского шума, делала бесспорным невысказанный выбор. Приходилось строго следить за собою, чтобы одно лицо не подменялось другим. Чтобы мечты плыли поверх волны и не осмеливались опускаться в глубину, на то мягкое тёмное дно, где похоронен балкон с навесом и бренчащий дождь.