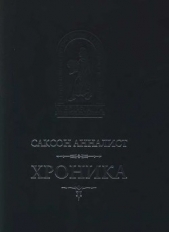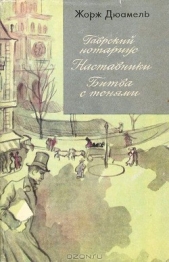Хроника трагического перелета

Хроника трагического перелета читать книгу онлайн
Эта историческая повесть стала последней книгой Станислава Токарева. В ней он рассказал о А. Васильеве, С. Уточкине. М. Ефимове, Н. Попове и других первых русских спортсменах-пилотах.
В центре событий произведения, изложенных очень эмоционально и своеобразно по форме, — сверхдальний рекордный перелет Петербург — Москва.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Мы не знаем, что читал император. Не исключено, доставленный из Петербурга, на особой мелованной бумаге отпечатанный номер «Нового времени», обозрение международных дел стратега и полемиста М. Меньшикова. «А в чем дело? Германия направляет старенькое небольшое судно в захолустный марокканский порт? Нам-то что за дело? Почему бы не разрешить немцам смешной затеи переселить часть своего населения на варварийский берег или в пекло Центральной Африки?»
На Комендантском Неклюдову внезапно вручают телеграмму: «Из Сиверской. Лопнул бак с бензином, сел в лесу близ станции Оредеж. Если удастся запаять, продолжаю полет, в противном случае возвращаюсь. С наилучшими пожеланиями граф Сципио дель Кампо».
— Ничего не понимаю, — говорит Неклюдов. — Какая Сиверская, откуда Оредеж?
— Это Виндавская железная дорога, — поясняет Среди иски и.
— Сам знаю, что Виндавская. Куда ж он летел? Не в Варшаву же, не в Киев?
Сципио, действительно, заблудился. Сперва в тумане, потом, когда выпростал из кармана «колоду» клочков карты, запутался окончательно. Опустился пониже: под ним шоссе. Откуда ему было знать, что оно не Московское, а Царскосельское? Бог знает, куда бы его занесло, если бы не лопнул бак.
Сел на поляне, пешком через лес побрел на станцию, которую приметил сверху, и дал телеграмму. А также другую — с покорнейшей просьбой прислать механиков. Дождался, они явились, походили, повздыхали: характер аварии таков, что винить-паять надо в столице: «Холера ясна!» — выругался граф. Пошел искать еще помощь и, к счастью, набрел на исправника, проявившего чудеса распорядительности. Вскорости явились туземцы с топорами и пилами, поплевали на ладони, проделали просеку, получили «на чаишко», и на железнодорожной платформе «Моран», сопровождаемый хозяином, вернулся в Петербург. В мастерские Офицерской воздухоплавательной школы.
Новгород. Васильев торопится стартовать. «Александр Алексеич, не желаете ли перекусить? У нас уж все накрыто». — «Некогда, господа. Скорее бензина и масла!» Кажется, обиделись.
Местный хлебосол Белопольский в роли комиссара был, извините, ни к черту. Этакая странность пришла в голову: вместо того, чтобы приготовить все необходимое подле ангаров, распорядился запрятать бензин и масло в какие-то подвалы. Ключ, понятно, у того, кто «сейчас тут был, верно, на минутку отлучился». Бензин волокли в четвертной бутыли, масло еще бог знает в чем. Да есть ли воронка? «Господа, у кого ж она?» Выяснилось, ни у кого. Попытался налить без воронки: бес с ним, что «разведчики» попачкали тужурки — корпус залили, педали, клош… Руки скользили! «Нет ли тряпки?» Со всех сторон тянутся носовые платки. И их перепачкал. Некто шустрый тащит охапку стружек, некто озабоченный закурил папироску, спичку было отбросил… «Вы с ума сошли — сгорим!» — «Э, барин-барин, что вяжетесь с безрукими?» — старик-буфетчик несет стопу салфеток.
Его авто с механиками, разумеется, не приезжало. Сам осмотрел мотор, переменил две свечи, вычистил остальные… Показал солдатам, как держать и отпускать аппарат. «Господин Белопольский, поверните пропеллер». Господин робко пятится. «Ну, кто-нибудь». Охоты не изъявляет никто. Не просить же Янковского или Лерхе — неловко, конкуренты.
Дальнейшее известно: появился Уточкин — помог.
Васильев ушел из Новгорода раньше Янковского. На сколько тот задержался, не знал (позже выяснилось, что на час пятьдесят минут). Ясно одно: он — лидер.
Это чувство торжества вскоре сменилось иным — настороженности. Сильней сделался встречный ветер, то и дело менял направление, бил то в правую, то в левую скулу, что могучий, умелый и злой боксер. «Тучки небесные, вечные странницы», не жемчужные, но обратившиеся в серое рубище, тяжелое от сырости, хлестали аппарат, норовили заслонить то землю, то зенит. Одна обдала мелким дождем, и тотчас отяжелели крылья. Но не от горсти капель машина резко канула вдруг вниз: начались воздушные ямы. «Слыша раньше от заграничных авиаторов о существовании таких ям, в которые аппарат сразу падает на 150–200 метров, я считал эти рассказы анекдотами, теперь…»
Он понимал, что Валдайская возвышенность — не какие-нибудь там Альпы, Пиренеи. Но и болотистые, овражистые горки эти рождали завихрения почище, нежели теснины Кавказа, когда в Тифлис летал. И кудлатую шевелюру леса ветер точно частым гребнем то всю враз в одну сторону причесывал, то в другую..
Вдали показались Крестцы — крыши, церквушка. Хотел было сесть — не углядел стартовой поляны. Ветер повернул, двинул слева, машина шла боком, иначе не могла. Ни лужайки внизу, ни души.
В десятом часу утра внизу, наконец, предстало поле. По нему навстречу бежал человек, размахивая флагом. Рукой, покрытой кровью от того, с какой силой был сжат клош, Васильев двинул его от себя, колеса коснулись земли, побежали…
Это был Валдай.
Похоже, пилот пережил самые страшные в жизни полтора часа.
Янковский приземлился в Крестцах: старта, впрочем, тоже не нашел, сел неподалеку в овсы.
Лерхе… Вероятно, его вообще не следовало пускать. Как мог, уговаривал прервать полет князь Любомирский. Нет — вырвался. Махом перевалился через борт глубокого фюзеляжа «Этриха», жестом потребовал заводить. Поднялся.
Свидетельство. «Он держится низко над землей, полет его производит странное впечатление, словно он не знает, лететь ли дальше. Сначала направляется к городу, потом заворачивает, снова и снова, и на середине второго круга опускается, однако будто бы непреднамеренно. Его ведут под руки, на голове платок. Он утверждает, что аппарат упал, а он ушиб голову. Аппарат совершенно цел. Авиатора увозят в больницу, где обнаруживается сотрясение мозга».
Янковский уже в Валдае. Пьет чай. Спокоен, мягок, ровен в обращении. Его спрашивают, откуда шрамы на лице. «Я был отчаянным корпорантом в одном из германских университетов».
Кажется, он ничуть не утомлен. Кажется, приехал в вагоне второго класса — в серенькой своей пиджачной паре. Не будь наброшена на спинку стула кожаная куртка, не лежи у носка сапога шлем.
Две противоположности — Васильев и Янковский. Первый — тонок, пылок, нервен, литературный дар (вспомним строки о «бледных костлявых руках смерти», мнившихся ему в ветвях под Валдаем) делает натуру более пластичной, подверженной художественной фантазии, но менее защищенной. Одолевать глубоко спрятанную, подавленную привычкой, но теплящуюся боязнь высоты, постоянно одолевать и потому предугадывать опасность, однако ж взывать к личной чести, стремиться ее не уронить — само по себе подвижничество. Янковский — сильней, бронированней, порывы не властны над ним. Не случайно в том же 1911 году он предпринял попытку совершить перелет Варшава — Берлин, но в Познани не приготовили запасных частей, пришлось прервать маршрут. Как бы то ни было, он первым пересек по воздуху границу империи. Георг-Витольд Янковский был вторым пилотом у Игоря Сикорского, когда тот в мае 1913 года поднял в небо первый свой фрегат — «Гранд». Позднее участвовал в первом слепом — по приборам — полете «Русского витязя». Склонен к конструированию и, скорей, к анализу техники, которой доверился, чем к самоанализу и предвидению последствий собственных поступков в сложных, подчас закулисных земных обстоятельствах. Так, в 1916 году, доложив специальной комиссии об объективных трудностях управления «Муромцами», невольно дал повод верховному главнокомандующему — царю — перечеркнуть идею дальнейшего выпуска уникальных воздушных кораблей.
Душа, обрамленная сталью, на которую натянуты дивно тонкие струны, — редкость величайшая. Природа дала Васильеву одно, Янковскому — другое. Природа соединила, казалось бы, несоединимое в ренессансной фигуре великого Михаила Громова. Атлета, красавца, наделенного, кроме мужества и отваги, педантичной организованностью, осторожной предусмотрительностью. Все, что может произойти в полете, он представлял и в воображении — художественной ипостаси предвидения. Мысль о том, что впереди, приходила не только по пути выкладок и опытов, но и озаряла. Михаил Михайлович изучал труды Сеченова, стремясь познать, закалить, усовершенствовать свой нервный аппарат. Но и страстно любил литературу, великолепно декламировал Пушкина, Гоголя (говорят, «Старосветские помещики» в его исполнении звучали лучше, чем у Игоря Ильинского). Летчик Громов блистательно рисовал. Плакал, слушая «Вокализ» Рахманинова. Завещал, чтобы на похоронах его вместо траурных маршей исполняли это произведение, полное борений страсти: поистине — «пер аспера ад астра», через тернии к звездам.