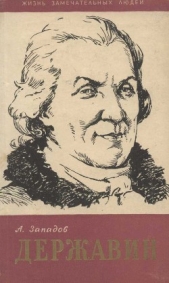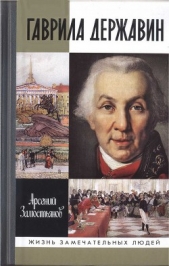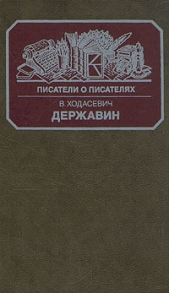Громовой пролети струей. Державин
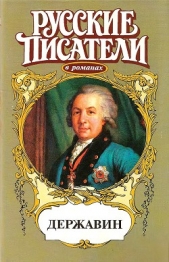
Громовой пролети струей. Державин читать книгу онлайн
Роман О. Михайлова повествует об одном из родоначальников и реформаторов русской литературы. Жизнь талантливого поэта, истинного гражданина и смелого человека изобиловала острыми драматическими конфликтами. Храбрый гвардейский офицер, видный государственный деятель, Г.Р. Державин не страшился "истину царям с улыбкой говорить", а творчество его дало толчок к развитию современных жанров литературы, который трудно переоценить.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
В несправедливой мстительности Потёмкина виделось раздражение не одним Суворовым. Светлейший болезненно ощущал, что влияние его падает, что новый фаворит Платон Зубов забирает власть над старой императрицей. Потёмкина не мог уже обмануть поток подарков. Чувствуя, что почва уходит из-под ног, он ещё храбрился и говорил, отправляясь в столицу:
— Я нездоров и еду в Питербурх зубы дёргать...
3
На Фонтанке в 757-м году по проекту известного Гваренги был выстроен для генерал-аншефа графа Романа Илларионовича Воронцова, отца княгини Дашковой и графа А. Р. Воронцова, покровителя Радищева и самого Державина, роскошный загородный дворец. В церковь при нём Катерина Яковлевна пожертовала две тысячи рублей, проценты с которых шли на поминовение державинского рода. Рядом с домом Воронцова раскинулась обширная усадьба одного из Зубовых, в которой по временам живал и Платон. К ней примыкал дом сенатора Захарова, купленный Державиным.
Главное здание находилось в глубине двора; над фасадом высились фигуры четырёх античных богинь. Со стороны фасада имелось два боковых подъезда, третий выходил в сад, разводимый стараниями Катерины Яковлевны. От фасада по обоим краям дворца шли колонны, которые затем продолжались и вдоль стены, параллельно Фонтанке. Кабинет поэта был на втором: этаже; большое венецианское окно глядело во двор.
Державин в атласном голубом халате и колпаке, из-под которого небрежно висели остатки волос, писал на высоком налое. Пригожая Катерина Яковлевна в белом утреннем платье сидела в креслах посреди комнаты, и парикмахер щипцами припекал ей локоны.
— Катюха, бесценная моя, послушай! — Поэт с листами в руке вышел из-за налоя:
— Прекрасно, Ганюшка! — Катерина Яковлевна отсторонила стригача. — Звучно, возвышенно. Право, кто из поэтов с тобой сравнится...
Камердинер Кондратий просунул в дверь лицо:
— До вас господин Львов, а с ним какой-то незнакомый...
— Катюха! Николай Александрович, чать, привёл к нам Ивана Дмитриева. Помнишь, читал я тебе его подённую записку касательно красот Финляндии?
— Как же, мой друг, забыть, когда он там обращается к тебе в стихах и называет Державина единственным у нас живописцем природы...
Дмитриев, высокий рябоватый офицер с прикосью, смущался, молчал или поддакивал, но добросердечный вид и приветливость обоих супругов ободрили его. Поговори несколько минут о словесности, о турецкой войне, хотел он, соблюдая приличие, откланяться, но Гаврила Романович и Катерина Яковлевна уняли его.
— Хочу тебе, Николай Александрович, и вам, Иван Иванович, прочесть новую свою оду. — Державин, высокий, худощавый, поднялся с кресел. — А от вас жду замечаний и советов.
При всём своём гении он с великим трудом поправлял собственные стихи сам, снисходительно выслушивал критику, охотно принимался за переделку, но редко имел в том удачу. Говорил он в обычном разговоре отрывисто, будто заботясь о том, чтобы высказаться поскорее. Зато когда переходил к любимому предмету, преображался:
— Ты написал возвышенную оду в духе Ломоносова. Это и приличествует предмету. Сама Россия заговорила в твоих стихах! — сказал Львов. — Впрочем, ещё одно влияние я чувствую. Сказать чьё? Это Оссиан. Помнишь перевод «Поэм древних бардов»?
Державин с беспокойством спросил:
— А замечания? Я ведь знаю за собой, что небрежен...
Дмитриев не решился сказать что-либо, а Львов взял листки и принялся разбирать оду, строка за строкой, находя неудачные слова и выражения.
— Ты, Гаврила Романович, написал: «Под ними дол, за ними дым». Сие не совсем точно. «Дол» не выражает страшного сего момента. Лучше сказать как-нибудь иначе, — он задумался, шевеля губами, и предложил: — «Под ними стон, за ними дым»...
Державин слушал, кивал головою. Совет Львова написать «ты багришь» или «кровавишь бездны» вместо своего «ты пенишь бездны» он не принял, равно как и «бесстрашно высятся челом» взамен «седым возносятся челом». Зато другие поправки, в том числе и в строчке «Под ними дол, за ними дым», тотчас учёл и вписал вместо слова «дол» «стон». В спорах он иной раз отстаивал ошибочное мнение и на сей раз отказался переделать неловкую строку, «Поляк, Турк, Перс, Прусс, Хин и Шведы». Он упрямился, сердился, но скоро отходил и сам над собой подшучивал.
За разговором и не заметили, как пришло время обеда.
Когда к столу подали разварную щуку, Дмитриев заметил, что хозяин, уставясь в блюдо, что-то шепчет.
— Гаврила Романович, — осмелел молодой поэт, — что отвлекло вас?
Державин с доброю улыбкой откинулся на высокую спинку стула.
— А вот я думаю, случись мне приглашать в стихах кого-нибудь к обеду, то при исчислении блюд, какими хозяин намерен потчевать, можно бы сказать, что будет «и щука с голубым пером...».
Голова его воистину была хранилищем запаса сравнений, уподоблений, сентенций и картин для будущих поэтических произведений. И через несколько лет Дмитриев узнал «щуку с голубым пером» в послании Державина «Евгению. Жизнь Званская».
После кофия, когда Львов уехал по неотложному делу, Дмитриев тоже поднялся, но упрошен был остаться до чая. Таким образом, с первого посещения молодой поэт просидел у Державиных до самого вечера.
Прощаясь с Державиным, Дмитриев решился спросить его:
— Почему в ваших прекрасных стихах нет ни славного Суворова, покорителя Измаила, ни прочих знаменитых полководцев?
— Друг мой, — ответствовал хозяин, — не желая прослыть льстецом, решился я отнести в этой оде все похвалы только к императрице и всему русскому народу.
Говоря так, Державин несколько лукавил. Прямо хвалить Суворова поэт опасался. Вернее сказать, он не чувствовал себя достаточно утвердившимся после недавнего падения, чтобы воспеть опального полководца. Это сделал чуть позже Костров своей эпистолой «На взятие Измаила»: «Суворов, громом ты крылатым облечён и молний тысящью разящих ополчён, всегда являешься ты в блеске новой славы, всегда виновник нам торжеств, отрад, забавы...»
Сам Суворов крепко порицал державинскую оду и даже советовал дальнему родственнику и виршеплёту Д. И. Хвостову [44] написать на неё критику: «Похвала есть единственная награда поэта и героя, а как в сей оде ни слова не сказано о Суворове, а всё говорится о князе Потёмкине, который за 200 вёрст был от приступа, то герой, почитающий их дело — взятие Измаила — знаменитейшим из своих походов тогдашнего времени, не мог простить стихотворцу за молчание о нём».