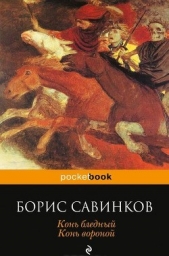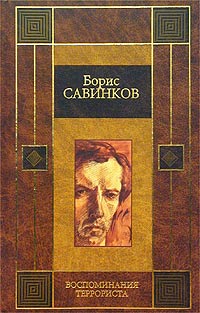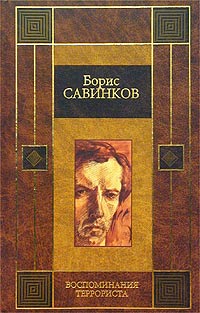То, чего не было (с приложениями)

То, чего не было (с приложениями) читать книгу онлайн
Роман «То, чего не было» В. Ропшина, принадлежащий перу одного из лидеров партии эсеров, организатору многих террористических актов Борису Савинкову (1879–1925), посвящен революционным событиям 1905–1907 гг. В однотомник включены (раздел «Приложение») воспоминания матери Б. Савинкова С. А. Савинковой (1855-7) «Годы Скорби» и «На волос от казни», а также статья Г. В. Плеханов«(1856–1918) „О том, что есть в романе «То, чего не было“.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Всю весну и жаркое лето Болотов не слезал с козел. Смерть Сережи ожесточила его. Он по-прежнему чувствовал отвращение к боевой полицейской «работе» и смущался двойственным ремеслом. Но теперь он ловил себя на других, сокровенных и мстительных мыслях. Часто ночью, на нарах, когда громко храпели извозчики и бродила тьма по углам, а ночник мерцал дремотно и скудно, он не мог уснуть до зари и думал о прокуроре. Глядя расширенными зрачками на низкий, закопченный сажей и проеденный ржавчиной потолок, он вспоминал тот мучительный день, когда в последний раз увидел Сережу. И незаметно, тайком, как лукавый и опытный вор, им овладело новое чувство: желание убить. Он боялся этих растлевающих мыслей. Негодуя, он упрекал себя в озлоблении, в буйном гневе мстящего дикаря, но совладать с собой не мог. Он стал мрачен, не разговаривал с Порфирычем на дворе, не слушал пьяных излияний Стрелова и, завидев Супрыткина, торопился уйти. Изъезженный колесами двор, простоволосые бабы, вши, и запах навоза, и стук копыт в денниках удручали его: он боялся, что бездейственным дням не будет конца, что прокурор останется жив.
На улице это злобное чувство волновало еще острее. Проезжая по Фонтанке и по Садовой, мимо церкви Покрова Богородицы, заходя в извозчичьи трактиры, он вспоминал короткие встречи с Сережей, его исполненные любви, тогда чужие и теперь незабываемые слова. И хотя террор временно был прекращен, он, не спрашивая ничьих указаний, один, на свой страх, пытался продолжать «наблюдение». Он часами простаивал у казенных домов – у Военного министерства, у Государственного совета, у Таврического дворца, у Главного штаба – и усердно следил, не покажется ли сгорбленный, хромоногий, в генеральском пальто, старик. Он верил, что высший долг, обязанность перед партией – тяжким трудом достигнуть победы. Эта вера вдохновляла его и оправдывала задуманное убийство.
После смерти Сережи Болотов понял, чем живет Ипполит. Он понял, что этим, истомленным неравной борьбой, осиротелым и обессиленным человеком владеет ненависть – ожесточенная злоба. Ипполит был уверен, что он не один, что Арсений Иванович, и доктор Берг, и Вера Андреевна, и комитет, и партия, и Россия, весь многомиллионный русский народ ожидают обещанного убийства. Он был уверен, что только случайно именно он руководит дружиной и что каждый член партии, каждый голодный крестьянин, каждый нищий студент с радостью заменит его и отдаст свою жизнь. Он не понимал, что он – исключение, что Россия молчит, что революция разбита и что его непримиримые бомбы – догорающие, уже безрадостные зарницы. Но если бы даже он понял, что правительство победило и что не поддержанная народом партия не в силах бороться, он не мог бы оставить «работы». Он думал, что только смерть венчает кровавое дело, и ждал своей смерти, как награды и избавления.
Сочувствие и поддержку он находил в своем друге Абраме. Абрам, добродушный, с широким детским лицом, громадного роста кожевник, оставил в Вильне семью. Не передовые статьи и не речи ораторов убедили его в необходимости «систематического» террора. Он на опыте, на погромах, на сожженных домах и расстрелянных детях узнал жестокость «благоустроенной» жизни и не усомнился в законности «огня и меча». Так же как Ипполит, он жил непоколебленной верой, что его благословляет народ, замученный от века Израиль и что «то сердце не научится любить, которое устало ненавидеть».
Но в одном они не могли согласиться: Абрам, посмеиваясь, с пренебрежительной усмешкой отзывался о «господах» и «студентах» и не любил комитета. На горячие убеждения, что он не прав и что комитет не делает разницы между солдатом и генералом, помещиком и рабочим, он упрямо и недоверчиво отвечал: «Знаю… Ха!.. Не втирайте очков… Та же эксплуатация… Американская выжимочка…» Его место было в дружине Володи, но по счастливому совпадению его нашел Ипполит, и Абрам привязался к нему – «эксплуататору» и «студенту» – душою и телом. Болотов любил его еврейские смеющиеся глаза и наивную душевную чистоту – отсутствие «интеллигентских» вопросов.
Анна, худощекая, бледная, тридцатилетняя девушка с серыми навыкате сияющими глазами, готовила бомбы и хранила у себя динамит. Бывшая фельдшерица в селе, она вынесла из деревни глубокую, не книжную, не программную, а живую и искреннюю любовь к народу. Эта любовь толкнула ее в террор. Она не знала ни ненависти, ни злобы и, как Сережа, тяготилась убийством. Но она думала, что, убивая чиновников и князей, она приносит неоценимую пользу, приближает день революции, тот день, когда «не будет богатых и бедных, господ и рабов, властителей и подвластных». Она одевалась небрежно, курила толстые папиросы и говорила по-нижегородски на «о». Болотов привязался к ней. Ему нравились ее скромность, ее готовность радостно умереть, ее восторженные рассказы о деревне и мужиках, ее незлобивость и правдивость и грубоватый, почти мужской голос. Комитет она уважала и верила, что партии предстоит победить мир.
Главный военный прокурор жил на Литейном проспекте, в казарменном, неуютном и мрачном особняке. В конце августа «изыскания» установили, что еженедельно, по четвергам, он ездит в Военное министерство. Болотов изучил не только его лицо, усы, руки, волосы, ордена и погоны, но и кучера, лошадей, карету, ее колеса, спицы, фонари, и вожжи, и подножки, и окна. Он узнавал прокурора на расстоянии пятидесяти шагов и предсказывал без ошибки, поедет он или нет: в день его выездов у подъезда сторожили шпионы и длиннобородые дворники караулили у ворот.
Стояло бабье лето. Дни выдались ясные, полупрозрачные, хрустально-осенние. В Петровском парке золотом опадали березы; птицы не пели, и по вечерам, за Невой, огневыми лучами пылало море. Ночи были прохладные, с серебристыми звездами и утренниками на ранней заре. В первых числах сентября, в понедельник, Болотов, встретив прокурора на Невском, вечером вернулся домой, развожжал запотелую лошадь, распряг и поставил ее в денник. Не убирая пролетки, он надел суконный картуз и, обходя вонючие лужи, вышел в ворота. На лавочке, у ворот, сидел лохматый, черный как смоль Стрелов и толстый дворник Супрыткин.
– А тебя околоточный спрашивал… – подавая жирную руку и не глядя на Болотова, сказал Супрыткин и принужденно зевнул.
Болотов поднял брови:
– Околоточный?
– Да, Хрисанф Валерьянович.
– Чего ему надо?
– Чего надо? – переспросил, подмигивая, Стрелов. – Эва! Разве не знаешь? Младенец какой… детишкам на молочишко… Ай нет?
Супрыткин вздохнул:
– Сказывал, чтобы в участок пришел.
– В участок? Зачем…
– Зачем? Дело есть. Начальство велит… Может, штраф или ежели что… Нам неизвестно…
Болотов в первый раз с любопытством посмотрел на Супрыткина, на его бычачью, мясистую шею, на опухшие мешками глаза, на рыжую бороду, на начищенные, как зеркало, сапоги и на самодовольно-тупое, лоснящееся жиром лицо. «Мы боремся, отдаем жизнь… А вот этот… Этот Супрыткин… Эти Супрыткины и Стреловы придут и нас победят… Победят великолепною тупостью, сытым брюхом, глупым самодовольством, сапогами, гармонией и деревянной уверенностью в себе», – волнуясь и скрывая предательское волнение, подумал он. Стрелов кашлянул и осторожно сказал:
– Давеча в «Друзья» граммофон привезли… Самое время.
– Что самое время?
– Я говорю: самое время в «Друзья»… Супрыткин строго взглянул на него:
– Тебе бы только в кабак… Ты что же, пойдешь в участок? – не поворачивая намасленной головы и крестя рот, обратился он к Болотову.
– Пойду.
«Зачем околоточный?… Штраф?… Но если штраф, то не позвали бы в участок… Паспорт?… Но паспорт в порядке… Неужели за мною следят? – думал Болотов, выходя на Забалканский проспект. – Следят теперь, когда все готово, когда Дума разогнана и комитет разрешил, когда я знаю карету… Нет, не может этого быть…» Он так был известен в трактире и на дворе, так безбожно, до хрипоты рядился на улице с седоками, так, не краснея, давал взятки городовым, так привык запрягать, чистить, мыть, носить кулями овес, так втянулся в извозчичью жизнь, что ему непонятным казалось, как могут за ним следить. Но когда он свернул на Фонтанку и увидел смрадный трактир, где иногда встречался с Сережей, он почувствовал беспокойство. «А если следят?… Покушения не будет, прокурор не будет убит, и Сережа, значит, умер напрасно. И виноват буду я…» Он оглянулся. Сзади не было никого. Набережная была пуста, и только вдали, на мосту стоял одинокий городовой. «Надо сказать Ипполиту. Пусть решит Ипполит… Неужели дружина погибнет?…» О себе он забыл. И только подходя к ресторану «Олень», к обыкновенному месту свиданий, он понял, что тоже умрет. «Умру зря, не убив… Да, я умру… не может этого быть…»