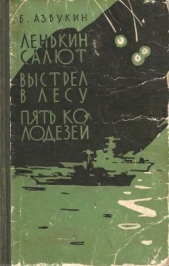Истоки
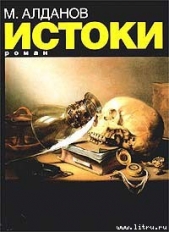
Истоки читать книгу онлайн
В большей степени, чем любое другое произведение Алданова, «Истоки» связаны с русским историческим романом XIX века. Но современник Соловков и Хиросимы, Алданов по-новому интерпретирует известные события русской и европейской истории 1874—81 годов. Размышляя о культурной традиции, сталкивая героику и будни, анализируя поведение человека перед лицом смерти, он, по существу, остается в кругу вечных тем, но главный его мотив — бессилие человека перед потоком исторических событий, тщетность исторических деяний. Этот горький мотив контрастирует с внешней легкостью занимательного повествования: композиция выразительна, сюжет включает элементы высокой трагедии, мелодрамы, криминальной истории.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Я? Я во всем прямая противоположность папа! Если б покойная мама не была воплощенной добродетелью, то надо было бы сделать ужасные выводы!
К делу о рысаке Елизавета Павловна подошла правильно, и Павел Васильевич смягчился. Он знал, что его дочь на честное слово не солжет. Ее заверение, будто он кивнул головой, было конечно неправдой, но это было заверение просто. «Честное слово» было другое дело, его ритуал свято соблюдался в семье, и обе дочери Муравьева, часто обманывавшие отца (особенно старшая), никогда на честное слово его не обманывали. Он успокоился и пошел на уступки. Серый рысак был куплен. Смета лаборатории была спрятана (и безвозвратно затеряна) под прейскурантами. Один экстренный расход повлек за собой другие. После покупки рысака пришлось нанять кучера. В добавление к пролетке поздней осенью по случаю купили сани. К саням понадобилась новая полость, так как старая была грязна и порвана, — Елизавета Павловна говорила, что ей-то все равно, но перед кучером стыдно. Вначале она действительно каждое утро ездила на острова с разными молодыми людьми и была в восторге от нового развлеченья. Черняков с тревогой говорил, что она носится на рысаке с бешеной скоростью, — «как какая-нибудь Жанна д’Арк» (он собственно хотел сказать: «как сумасшедшая», но это было почти то же самое). Позднее ей езда надоела: в марте и сани, и пролетку очень трясло. Елизавета Павловна перестала кататься и приказала кучеру выезжать по утрам, чтобы лошадь не застоялась. Гнев Павла Васильевича скоро прошел, и он даже написал шуточные стихи по случаю покупки рысака.
По понедельникам, от часа до двух, Муравьев читал специальный предмет студентам старшего курса. Это были избранные главы физики. Под конец Павел Васильевич оставил то, что в последние месяцы занимало его мысли больше всего на свете: электромагнитную теорию света. Он вышел из дому в прекрасном настроении. Была вторая половина апреля, самое любимое его время в Петербурге, стояла прекрасная солнечная погода, и на улицах вдоль тротуаров еще стекали последние потоки мутной воды, которым он по опыту приписывал непонятную живительную силу.
В маленькой уютной аудитории слушателей было человек десять. Кроме студентов, на первой скамейке, прямо против кафедры, сидел приват-доцент физики из другого учебного заведения. Павел Васильевич давно знал, что товарищи по науке, особенно не сверстники, а младшие, очень высоко его ставят и признают одним из первых физиков России. Однако всякий новый знак внимания бывал ему приятен. Этот же знак внимания относился и к нему, и отчасти к Максвеллу. Недавно созданная электромагнитная теория света была еще мало известна в Петербурге. У Муравьева в физике больше, пожалуй, чем в политике, были дружественное и враждебное направление, близкие и чужие люди. Максвелл был одним из самых близких. Теперь преклонение перед его гением дополнялось сердечным сочувствием: из Англии шли глухие слухи, будто Максвелл очень болен, хоть скрывает это от жены и ото всех.
Среди студентов Муравьев пользовался немалой популярностью, как выдающийся ученый, независимый человек передовых взглядов и очень снисходительный экзаменатор. Павел Васильевич дорожил своей популярностью, но немного сожалел о том, что популярен он отчасти, в пику некоторым другим профессорам. Не совсем была ему приятна и его репутация «блестящего лектора» (всегда употребляли именно это существительное с этим прилагательным): самые большие ученые, как Максвелл или Гельмгольц, «блестящими лекторами» не были. Вступительная лекция Павла Васильевича первокурсникам в начале учебного года составляла маленькое университетское событие: на нее собирались студенты разных факультетов, и задолго до ее начала одна из самых больших аудиторий бывала совершенно полна; студенты сидели даже на ступеньках кафедры или стояли по стенам; его встречали и провожали долгими рукоплесканиями. Павел Васильевич не очень любил свой общий курс начинающим, в особенности именно вступительную лекцию: не любил из-за торжественной обстановки (на второй лекции студентов бывало вдвое меньше), из-за неизбежной доли актерской игры, из-за «милостивых государей», из-за анекдотов, которые полагалось вставлять и которые (как и все выигрышные места первой лекции) повторялись из года в год: Муравьев не чувствовал себя способным ежегодно подыскивать новые анекдоты, имеющие хотя бы малое отношение к физике, и всякий раз с ужасом думал: что, если в аудитории есть прошлогодние слушатели с хорошей памятью? Некоторые блестящие лекторы под конец вступительной лекции, говоря о величии науки, пускали в ход дрожь в голосе (как тенора — тремоло или фермато в конце арии). Или же им вспоминался один древний миф; большей частью вывозил Прометей со своим огнем. Ни на дрожь в голосе, ни на Прометея Павел Васильевич просто не мог пойти. Бывали, впрочем, и такие профессора, которые с первой же минуты первой лекции, без Прометея, без величия науки, даже без обращения к студентам, начинали тыкать палочкой в какой-нибудь препарат или большой тростью в висевшую на доске диаграмму. По наблюдениям Муравьева, это и были самые выдающиеся ученые.
Специальный курс был гораздо интереснее, чем общий, и по предмету, и по обстановке. Тут не было ни шуток, ни анекдотов, ни милостивых государей. Он был знаком со всеми слушателями, знал, кто подает надежды, кто не подает (хотя может стать прекрасным профессором). Студенты с почтительной интимностью называли его по имени-отчеству. На этот раз Павел Васильевич, улыбаясь, раскланялся с аудиторией, удивленно-радостно помахал рукой приват-доценту, затем четко выписал очиненным мелом на доске (он терпеть не мог доску и мел) несколько уравнений, почувствовав, что студенты и подавлены, и горды этими предназначавшимися для них страшными интегралами. Но профессор почувствовал и то, что даже самые способные из них ничего не поймут и понять не могут. Так оно и было, — Павел Васильевич это видел по их лицам. В одном месте он сделал ошибку, выписывая новую формулу, и никто его не поправил (обычно, когда он вместо «синус» по рассеянности писал «косинус», с разных концов аудитории раздавались радостные возгласы: «синус, синус…»).
После окончания лекции приват-доцент подошел к кафедре и снизу вверх протянул Муравьеву обе руки. Павел Васильевич протянул ему тоже обе руки сверху вниз и выслушал комплименты. Но хотя приват-доцент говорил о «кристально-четкой формулировке», о том, что мысль Максвелла была ему ясна как день, Муравьев чувствовал, что и приват-доцент тоже ничего не понял. «Что ж делать? Над этим годами надо размышлять», — подумал он. Затем он в коридоре дал какое-то разъяснение одному из способнейших студентов, который не то из самолюбия скрывал непонимание, не то просто хотел на виду у товарищей пройтись с профессором Муравьевым в ученой беседе с ним.
Павел Васильевич зашел в профессорскую и там посидел полчаса. С громадным большинством профессоров у него тоже были очень хорошие отношения; он редко ссорился с людьми, хотя, когда его выводили из себя, говорил, случалось, очень резко. В этот день разговор опять зашел о Сан-Стефанском мире, не интересовавшем по существу почти никого, и о деле Веры Засулич, напротив, всех еще волновавшем. Была и свежая университетская новость, составлявшая злобу — именно злобу — дня. Профессор-юрист, превосходный рассказчик и causeur [73], слушавший себя с заразительным наслаждением, остановился, к общему удовольствию (кто-то, впрочем, осторожно отошел), на личности министра народного просвещения. В характеристике министра профессор следовал литературному методу Светония, который для начала почтительно отмечал достоинства своего цезаря, а затем рассказывал о нем самые ужасные невероятные истории. Поговорили и об отставке великого князя Николая Николаевича: одни предполагали, что он покинул должность главнокомандующего добровольно, другие утверждали, что великий князь поссорился с царем. Поговорили также о княжне Долгорукой (поспешно отошел еще кто-то).