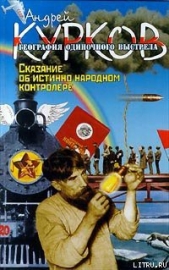Сказание о Маман-бие

Сказание о Маман-бие читать книгу онлайн
Перевод с каракалпакского А.Пантиелева и З.Кедриной
Действие романа Т.Каипбергенова "Дастан о каракалпаках" разворачивается в середине второй половины XVIII века, когда каракалпаки, разделенные между собой на враждующие роды и племена, подверглись опустошительным набегам войск джуигарского, казахского и хивинского ханов. Свое спасение каракалпаки видели в добровольном присоединении к России. Осуществить эту народную мечту взялся Маман-бий, горячо любящий свою многострадальную родину.
В том вошла книга первая.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— А ты никак с луны свалился, бий наш? — перебил Гаип-хан, отряхивая измазанные кровью руки. — Что же, тебе, как щенку, разжевывать мясо да в рот класть? А может, как старому кобелю, уж и нечем тебе раскусить кость, которую хозяин подкидывает? Подкидывает, любя!.. — добавил хан и полез к старцу обниматься.
Так поступал он всегда и со всеми: укусив, обнимал, а обняв, кусал.
Рыскул-бий отстранился брезгливо:
— Руки помойте…
Гаип-хан разахался в ответ с фальшивой горячностью:
— Неужто простил, все простил? И кому, господи? Кровному обидчику! Забыл, как тебя топтал русский офицер? По чьему наущению? Всем старшинам руку жал, казаки — ружейную честь отдавали. Тебе одному — нет. Забыл? Да что далеко ходить! В посольстве Мамана — половина из рода ябинцев. Почему? Одних сыновей Мурат-шейха — двое родных, третий приемный… Кто там из твоего рода?
— Сагындык-богатырь.
— И того держат в черном теле… Вон свидетель. Спроси его сам. Соврет — башку с этого шельмеца сниму. — Хан ткнул нагайкой в сторону Аманлыка.
Рыскул-бий подозвал Аманлыка с усмешкой, которая говорила, что старик понимает; конечно, этот шельмец соврет со страха перед ханом.
Провожал Мамана? — спросил Рыскул-бий.
— Да, бий-отец, пока он сам не отослал нас домой. Конь у меня молодой, слабоват. Я и отстал от товарищей.
— Ну, а как лошадка у нашего Сагындыка? Лошадка Сагындыка была всем известна, впору
всаднику, богатырская, выносливая, как верблюд. Аманлык замялся:
— Не знаю, как сказать. Шла, шла… шла, шла…
— И сдохла? — подсказал насмешливо Рыскул-бий. Аманлык с готовностью кивнул. — От огорченья за хозяина? — Аманлык кивнул еще охотней, с усердием бесстрашным, хотя дрожал с ног до головы.
Плоские скулы Гаип-хана побагровели до черноты. Не находя слов, он заплясал на коротеньких ножках, отшвырнул подвернувшегося под пинок щенка, тот заверещал.
— Не тревожьте себя, хан наш, нет нужды, — сказал Рыскул-бий холодно-любезно. — Ладно, уезжаю… Остаюсь на том же месте, меж двух огней… Ведь вот чудеса: Маман меня будто омолодил, вы разом состарили. Что ж! Будем мстить роду Мамана, если вам это угодно.
— Не мне, не мне… — опять перебил хан. — Духу твоих предков!
Рыскул-бий безнадежно махнул рукой. И отвернулся от Аманлыка, словно стыдился его.
В тот же день явились мангытцы во главе с Убайдулла-бием, редкобородым. Гаип-хан по-прежнему возился с собаками, Убайдулла-бий кричал:
— Уймите! Спасу нет! Оказывается, мы виноваты перед кунградцами, что не деремся с ябинцами. Осата-нели совсем те дурные… посрамленные Маманом… Сами грызутся и нас натравливают. Жить не дают.
— А разве ябинцы святые? — спросил Гаип-хан, сидя на корточках.
— Люди как люди, хан наш… Но это же род Мамана!
Гаип-хан уставился на Убайдулла-бия с тупостью и злостью, которые, впрочем, можно было принять за вдумчивость и участие.
— Ну, а Рыскул-бий? Что он?.. Только что был у меня, обещался клятвенно усмирить своих неслухов. Вот уж с кого я взыщу.
— Мнится мне, — сказал Убайдулла-бий, — что тут не его вина, его беда. Подсобить бы… старому беркуту…
— Ха! Я ли его не ублажал-возвышал? Хотел, между прочим, послать с Маманом вашего человека, ман-гытца. Сунул он своего Сагындыка. Грозился, веришь ли: вырежем мангытцев, сотрем с лица земли, ежели отставите Сагындыка… Жалею теперь, что уступил. Эй! — вдруг окликнул Гаип-хан Аманлыка. — Долго ли провожал послов?
— Дольше всех, хан наш.
— Ну вот! Видел ты, как Маман нянчился с тем Са-гындыком-богатырем, как с малым дитем?
— Видел, хан наш, — ответил Аманлык. Гаип-хан хлестнул себя нагайкой по сапогу и словно
бы в сердцах ушел в охотничий шалаш, стоявший у зарослей осота и чертополоха.
А Убайдулла-бий, голову повесив, со вздохом сказал своему спутнику:
— Скользкий как угорь! Все у него шито белыми нитками, да поди угадай, кто тут воду мутит. Близко мы живем к хану, близко. Жить к хану близко — значит вечно разгадывать загадки. Нет, конечно. Остается одно: переселиться…
Аманлык вздрогнул при последнем слове. Оно напоминало те лихие времена, когда он осиротел. Понятно, переселенцы — не беженцы, но черные шапки не привычны кочевать, они врастают в землю, и переселяться для них означает рвать корни. Правда, и рвать корни черным шапкам не в новинку. Сколько раз это случалось на памяти белобородых! И все же не верилось, чтобы переселение задумывалось не в войну, не от вражеского нашествия. Это — сгоряча, под сердитую руку.
Кончилась наконец охота, Аманлык хану надоел, и тот прогнал его от себя, слава богу; ханские холуи свое слово сдержали и надавали дружку Мамана тумаков на прощанье, но Аманлык был доволен: ехал домой, к молодой жене, заждались они друг друга после единственной брачной ночи.
Первым долгом заехал все же к Мурат-шейху — порадовать его весточкой об уехавших с Маманом сыновьях и, честно говоря, удивить. Случай привел Аманлыка узнать то, что простым смертным лучше не знать. Хотелось Аманлыку удивить шейха тем, в какой видел Рыскул-бия растерянности, в какой видел Убайдулла-бия отчаянности, тем, какой Гаип-хан, оказывается, обманщик и лжец и еще какой он изменщик, губитель Маманова дела. Спросить: подлость это или такая уж невообразимая дурь?
Но Мурат-шейх не удивился и хана хулить не стал, а сам удивил Аманлыка, сказав:
— И переселишься… побежишь… куда глаза глядят…
— Как же это?
— А так, милый, что кунградцы живут выше по реке, в начале отводного канала, а мангытцы, несчастные, — ниже, в конце. В том и загвоздка. Мангытцы тут малолюдны, кунградцев — сила. Отрезали они у них воду… Жизнь отрезали! Вот какой грех.
Аманлык ахнул мысленно: грех? Это же палачество, пытка, когда земля и зерно в ней медленно, в муке помирают от жажды на виду у великой реки, точно безгласное дитя у груди матери-кормилицы!
Аманлык знал: все грешники, а шейх — святой. Пошлет, укажет… Распорядится, поправит! К а к — это не нашего ума. Но шейх — отец, учитель Мамана, не отступится.
Ожидал Аманлык, что его изберет Мурат-шейх своим гонцом и он, Аманлык, понесет спасительное повеленье не мешкая, устали не зная.
Ничего подобного не случилось. Вдруг Мурат-шейх проговорил, бороду оглаживая, с улыбкой:
— Ты-то у нас теперь семьянин… Ступай к Ешнияз-ахуну. Скажешь, что я послал. Он тебя научит, как подобает поступать молодожену. Слушай его и мотай себе на ус.
Затем жестом руки, старчески сухой, чистой и праведной, он подал знак, что отпускает джигита от себя. Жест был привычно властен и милостив.
Аманлык пошел прочь, себя не сознавая. Он не помнил, хватило ли его — хотя бы поклониться и поблагодарить, уходя. Кажется, это было. Наверняка было.
Шел как ушибленный, не разбирая дороги. Но пришел, куда и был послан. К Ешнияз-ахуну, за наукой.
Наука оказалась простая: ахун тут же нарядил джигита рубить осот, огораживать пшеничное поле. За тем же занятием застал Аманлык и других, себе подобных. Аманлык был запряжен наравне со всеми, и это означало, что он уже не безродный сирота и бродяга; была у него семья, а стало быть, свои, родные отцы — все старшие его рода. Отцы-хозяева…
Допоздна не разгибал спины Аманлык в доме Ешнияз-ахуна. Шла весна, страдная пора, хозяйственных забот был полон рот.
Отпуская джигита, ахун отечески благословил его. И Аманлык опять остался доволен. Былой воли и свободы не было и в помине, зато была жена, купленная ему родом.
А недели две спустя он увидел воочию то, о чем слышал, то, чему не хотелось верить.
Унылое это было зрелище, непонятное здравому рассудку, противное естеству. Птицы по весне прилетали в родные края, обживали гнезда, выводили птенцов, а люди, наоборот, срывались с насиженных мест, разоряли свои гнезда, уходили на чужбину.
Катились арбы, груженные до отказа, брели верблюды и ишачки под тяжкими вьюками. Судьба гнала людей, как люди гнали скотину. Телята, жеребята не бегали, взбрыкивая и крутя хвостами, — жались к стаду, ибо шли не на пастбище, а в дальнюю дорогу; они это чувствовали. И дети людские не играли — цеплялись за подолы молчаливых, угрюмых матерей и ревели на все голоса. Детский плач висел над караваном, как вороний грай над скошенными полями по осенней поре. У всех была весна, у этих людей — осень.