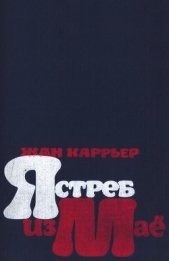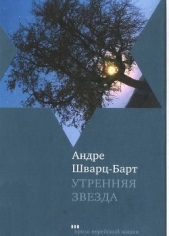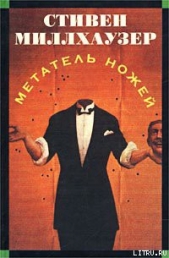Последний из праведников

Последний из праведников читать книгу онлайн
В книге «Последний праведник», которая воспринимается как хроника, автор широко использует еврейские источники, восточноевропейский и еврейский фольклор, а также исторические документы (особенно в главах, в которых описаны нацистские преследования). Изложение реальных событий переплетается с вымыслом. Все повествование, посвященное истории одной еврейской семьи, построено вокруг легенды о ламед-вав цаддиким, которую Шварц-Барт интерпретирует нетрадиционно, по-своему. Автор рисует страшную картину кровавых преследований, выпавших на долю евреев Европы, начиная со времен крестовых походов, в частности, с погрома в городе Йорк в 12 в. и гибели Иом-Това бен Ицхака из Жуаньи, и до третьего рейха и Катастрофы европейского еврейства. Герои книги — члены семьи Леви, потомки Иом-Това, в каждом поколении которых есть один скрытый праведник; последний из них, Эрни, гибнет в газовой камере. Центральные части романа дают увиденную глазами еврейского ребенка картину нарастания антисемитских и нацистских настроений в тихом провинциальном немецком городке, главным образом, в детской среде и школе. Большой интерес представляют многочисленные бытовые сцены и язык книги — эпический, богатый метафорами и изобилующий идишизмами. Один из ее лейтмотивов — дань уважения и благодарности евреям, которые на протяжении веков предпочитали смерть отказу от веры отцов.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Должен признаться, что совет господина директора, несмотря на невежливую форму, заслуживает с моей стороны особого внимания.
И все же, хотя отныне господин Кремер выкладывал на видное место свою трость, он продолжал втайне верить в чистоту детской души; как в некий противовес несовершенству взрослых. Конечно же, говорил он своему другу господину Гартунгу, ребенок происходит от человека, спору нет… как, впрочем, и человек происходит от обезьяны!
Он считал, что если дать человечеству образование и познакомить его с поэзией, то можно навсегда преградить дорогу варварству. В этой связи немецкие поэты-романтики, особенно Шиллер, у которого каждая строфа дышит гражданственностью, представлялись ему наилучшей духовной пищей. О, тот день, когда каждый житель земного шара узнает поэзию Шиллера, будет замечательным днем! Люди перестанут заниматься политикой, гоняться за деньгами, интересоваться женщинами легкого поведения… В этот благословенный день восторжествует Детство: взрослые навсегда останутся детьми, а дети изначально будут настоящими мужами… и так далее, и так далее.
За этими рассуждениями он так далеко ушел от современности, что не совсем точно представлял себе, какой сейчас в Германии строй: республика или все еще империя Гогенцоллернов. Да и какая разница! Сколько ни пережила Германия режимов — ни один из них не оказал существенного влияния на изучение Шиллера. Все эти социальные системы отличаются только названиями: республика, империя и так до бесконечности. Ему и в голову не приходило вмешиваться в такие пустяки. Зачем? В один прекрасный день все эти слова смолкнут перед великой Поэзией.
Разумеется, как и у каждого человека, у него тоже была любовная история. О ней было так же стыдно вспоминать, как и о ранении, которое он получил на фронте, — как раз под животом.
— Дорогая моя Хильдегард, — говорил он, краснея, — уверяю тебя, эта… это… словом, это не делает меня непригодным к супружеской жизни. Вот доказательство.
Впоследствии, когда годы наложили печать цинизма и на господина Кремера, он иногда думал, что зря не предъявил невесте более убедительное доказательство, чем жалкая медицинская справка. Их отношения охладились. Господину Кремеру в конце-концов надоело, что невеста смотрит на его частичное увечье («Частичное, моя дорогая, частичное») как на плоды порочного деяния, в котором он тайно принимал участие. Награжденный Железным Крестом, он мог бы после войны получить пост директора. Но мысль о том тяжком, тайном кресте, который он и так был вынужден носить, к сожалению, умерила его патриотический пыл. Его заподозрили в пораженческих настроениях. И тот факт, что он столь мало старался проявить себя настоящим немцем, окончательно убедил невесту в непригодности его благородных органов. Будучи женщиной сердечной, она вышла замуж за героя, потерявшего ногу, но отнюдь не патриотизм!
В силу такого стечения обстоятельств военные воспоминания господина Кремера настолько перепутались с воспоминаниями любовными, что вскоре опустевшее по вине людей место на теле и боль сердечной пустоты слились для него в единый сплав горечи, и порой ему казалось, будто и сердце и левое яичко сразил один и тот же удар, хотя подобные мысли не вязались с его возвышенными понятиями о любви.
«Фашизм, — думал он вначале, — это дешевый балаган на улицах и в правительстве. Скоро всех загонят назад в их пивные или посадят в тюрьму. Скоро старая добрая Германия накажет своих расшалившихся детей».
К первым проявлениям фашизма он отнесся философски, сдержанно и осмотрительно, как и полагается старому, испытанному гуманисту. Декрет о телесных наказаниях вызвал у него улыбку. Но когда он узнал, что его коллеги для вящей убедительности применяют этот декрет на спинах еврейских учеников, тонкий побег сорняка пророс в его чистом от всякого зла мозгу. Остальное сделал пожар в синагоге.
Синагога загорелась поздно вечером. К утру остался лишь почерневший остов. Два дня дымилась мертвая синагога над Штилленштадтом. Окно его квартиры на шестом этаже выходило во двор, и господин Кремер смотрел на высокую балку, торчащую посреди пепелища как обвиняющая рука, указывающая на христианский фасад старого дома.
Счастье еще, что со времени нашествия коричневорубашечников евреи не часто ходили в свой храм, так что, когда загорелась синагога, в ней находился всего один верующий. Больше жертв не было. Однако еще целую неделю соседи жаловались, что от развалин дух идет. Пахнет, полагали они, старым евреем, которого дым уносит в мирное небо Штилленштадта.
Этот погребальный дух очень неприятно щекотал ноздри господину Кремеру. Своему коллеге и другу господину Гартунгу, который всегда заговаривал с ним о евреях, господин Кремер сказал, что его, Гартунга, речи полны огня. Тот сделал вид, что не понял намека, но очарование дружбы было разрушено: в этот день после занятий они пошли врозь, на расстоянии пятнадцати метров друг от друга по той самой улице, по которой утром и вечером, начиная с первого октября 1919 года, ходили только вместе.
Однако механизм, который должен будет привести нашего деликатного гуманиста в концлагерь, еще не был как следует запущен. Когда колесо смерти сделало свой первый оборот, он был таким медленным, что господин Кремер его просто не почувствовал.
Школа насчитывала около пятнадцати «еврейских гостей» (как теперь любили называть учеников еврейского происхождения) и примерно столько же членов организации юных гитлеровцев. Но когда последние напали во дворе под каштаном на евреев, многие «аполитичные» ученики (детская душа — загадка) приняли сторону юных гитлеровцев в этой военной игре. Соединение евреев было смято, и на глазах у всех учителей победители, издеваясь над пленными, поволокли их через весь двор, а учителя старательно отводили рассеянный взгляд в сторону. Эти римские забавы наводили господина Кремера на разные мысли, но, боясь навлечь на свою голову императорский гнев, он ограничивался лишь тем. что прохаживался у дальней стены, а не у той, что ближе к каштану, где собирались евреи. Иногда все же он не выдерживал их криков и уходил в учительскую уборную, где в сумрачной тиши громко сморкался. Всякий раз, когда он чувствовал, что к горлу подступает ком, он трубил в носовой платок, а потом выходил из уборной с распухшим красным носом. Эта уловка не осталась незамеченной.
Однажды на перемене прямо под ноги господину Кремеру покатился Эрни Леви, которого преследовали два юных гитлеровца. Ганс Шлиманн стал побежденному коленом на спину, и тот, разметав окровавленные руки по земле, закрыл глаза. Ганс схватил Эрни за волосы и повернул лицом к небу, словно хотел заставить его молиться.
— Ну как, отпала охота играть? — крикнул Ганс, сверкая белыми зубами.
Он, казалось, не придавал ни малейшего значения тому, что господин Кремер стоит совсем рядом. Тот растерянно погладил лысину, покачнулся на своих длинных ногах, со вздохом процедил сквозь желтые зубы: «Послушай, дитя мое…», но вдруг схватил юного гитлеровца за шиворот и отшвырнул в сторону.
Двор замер при виде такого святотатства.
А господин Кремер зашагал снова — сто шагов вперед, сто обратно. Измученный, усталый, он ступал неуверенно, как старая перегруженная кляча, которая щупает копытом землю, прежде чем поднять ногу. Проходя под стеной осажденной крепости, он услышал сзади легкие шаги: за ним по пятам шел еврейский мальчик, откровенно и восхищенно пользуясь его покровительством. Что делать? Господин Кремер махнул на все рукой, и к концу перемены, чинно взявшись за руки, за ним шли уже трое: два мальчика и девочка. На следующий день компрометирующий кортеж разросся до пятнадцати человек, а еще через день сам Маркус Розенберг, Великий Маркус, последний защитник еврейского знамени, спрятав железную линейку под мышку, встал под стяг господина Кремера. Это был конец.
В тот же день, войдя в класс, господин Кремер увидел надпись, выведенную детским почерком через всю доску: «Друг евреев, вон отсюда!»
Господин Кремер подошел к доске, схватил тряпку, но, видно, передумал и небрежно бросил ее назад в ящичек. С минуту еще он постоял спиной к ученикам, а когда обернулся, встретил сорок устремленных на него взглядов, лицо его было холодно и неподвижно, фигура как-то вдруг вытянулась, одеревенела, и нижняя челюсть выступила вперед, как у немощной старой лошади. Так стоит она, запряженная в карету, и, прикрытая красивой попоной, кажется еще могучим животным. Прикрытый тридцатидвухлетней респектабельностью, подтянутый и торжественный, подошел господин Кремер к кафедре и, поскольку в классе поднялся шумок, взял двумя пальцами линейку и с видом полной отрешенности начал помахивать ею у своего уха. Немедленно воцарилась гробовая тишина.