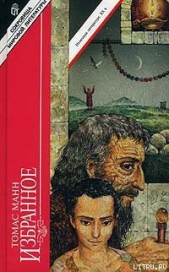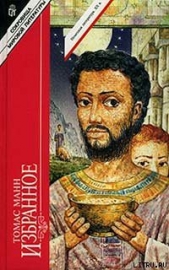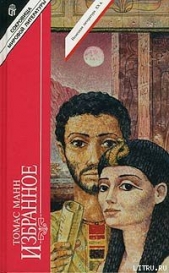Томас Манн

Томас Манн читать книгу онлайн
Томас Манн принадлежит к числу писателей, чье имя известно далеко за пределами его родины — Германии. «Будденброки», «Иосиф и его братья», «Доктор Фаустус» переведены на многие языки мира. Писатель, осудивший воинствующую империалистическую реакцию, вынужден был покинуть свою родину после прихода гитлеровцев к власти. Осуждение нацистского варварства, осуждение политики разжигания новой мировой войны характерны для творчества Т. Манна.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Правда, впоследствии Генрих отрицал, что эта фраза имела в виду брата, но, печатая очерк о Золя в 1931 году, вычеркнул и ее, и некоторые другие, подобные ей, в частности ту, что в тексте 1915 года стояла второй по счету: «Это те, кому суждено рано засохнуть, уже на третьем десятке действуют сознательно, считаясь с действительностью». Кстати сказать, еще раньше, при переиздании «Размышлений» в 1922 году, так же поступил Томас: он изъял из книги резкости явно уж личного характера.
Томас отвечает Генриху без преувеличения на десятках страниц своей книги. Мало того что он отводит полемике с ним целую главу, которую называет «Литератор от цивилизации», самая аргументация, самый круг вопросов, самый тон «Размышлений» — горький, взволнованный, грустный — во многом определены тем, что все время перед глазами автора, как враждебная ему ипостась «немецкой души», стоит его родной брат. В отличие от англичан и французов, считает автор, немцы не составляют единой нации. «В душе Германии вынашиваются духовные противоречия Европы». В Германии, говорит он, есть умы, не только не участвующие в протесте против римского Запада, но и протестующие против этого протеста, ратующие за присоединение Германии к «империи цивилизации». «Назвать эти умы не немецкими я остерегусь. Понятие «немецкий» — бездонная пропасть, оно содержит и отрицание себя же». Воплощением такого отрицания автору «Размышлений» представляется родной брат. «Литератор от цивилизации», «ритор-буржуа», «бульварный моралист», «волюнтарист», «фланирующий психолог», «друг Антанты», «немецкий западник», «citoyen vertueux» 26 — все эти эпитеты направлены прежде всего в Генриха Манна. «Перед войной мы были братьями, о боже! А когда мы не были ими, то средства борьбы были «духовными» — помилуйте! Негуманность средств борьбы — вот что вызывает отвращение у литератора от цивилизации. Негуманность начинается для него там, где течет кровь: это он видеть не в силах. Убиение души кажется ему более прогрессивным, чем борьба штыком и гранатой — в этом он прав!..»
Прав Генрих — автор «Размышлений» это чувствует и на протяжении книги не раз признает — совсем в другом. В том, что перерождение немецкого бюргера в буржуа, что политизация общественной жизни Германии — совершившиеся факты, что «государство начальства» прогнило, что настало время новых, более демократических форм отношений между немцами и нового, неизоляционистского, непредубежденного отношения Германии к миру. Признает и то, что своими книгами, прежде всего «Будденброками», он сам выразил и ускорил этот процесс вырождения бюргерства. «Только я в отличие от радикального литератора, — спешит он оговориться, — всегда носил в себе противоположные, консервативные тенденции», а литератор от цивилизации «подгонял бичом» этот процесс. Признав все это, «аполитичный» должен был бы отнести эпитет «волюнтарист» скорее уж к себе самому. Но в том-то и противоречивость, в том-то и трагизм его книги, что здесь он сражается со своим идейным противником, зная, что фактически тот уже победил. «Эта смена эпох, по-твоему, «мой час»? Она «мой час» лишь постольку, поскольку ее громом несоразмерно-грандиозно ознаменован поворот в личном моем бытии, — конец моего «часа» означает она, если я не обманываюсь, а никак не его начало. Благоприятнейший для меня миг?! Глупец, разве ты не видишь, что это миг, благоприятнейший для тебя, да, да, для тебя?! Политизация, демократизация Германии, плод этой гуманно отвергаемой тобою войны, — разве не создает она атмосферы, в которой наконец-то на славу расцветет твоя политическая нравственность и политическая человечность?» Оглядываясь на эту свою книгу через много лет, Томас Манн назвал ее «арьергардным боем, боем большого размаха, последним и позднейшим боем немецко-романтического бюргерства, проведенным при полном сознании его безнадежности».
Он писал «Размышления», повторяем, два года. За это время от того военного энтузиазма, которым дышала статья «Мысли во время войны» и которым еще были рождены патетические слова о протесте против римского Запада в начальных главах книги, у него остались одни воспоминания. Он не был прежним не только потому, что «познавал себя». И не «познавая себя», а просто существуя во времени и волей-неволей испытывая воздействие объективных перемен, человек не остается таким, каким он был два года назад.
Живя в атмосфере всеобщей угнетенной усталости от кровопролитной войны, утомленный своей «галерой» и житейскими передрягами (тяжелая болезнь сына Клауса, собственные заболевания, недоедание, вынужденная продажа дома в Бад-Тёльце), наш герой, как и подавляющее большинство его соотечественников, все чаще задается одним вопросом: «Доколе?» «Мои от души идущие желания... — пишет он интернированному в Австралии брату жены в ноябре 1917 года, — если их уточнить, сводятся, конечно, всегда к вопросу, с которым Цицерон, не знаю толком почему, обратился к Катилине, к вопросу, на который сегодня никто не может ответить».
Он явно тяготится полемическим тоном завершаемой книги, шовинистической прямолинейностью первых ее глав, явно опасается, что, выразив свои представления о нравственности и гуманности в такой привязанной к преходящему настроению форме, он их исказил и опошлил. В 1917 году он вставляет в «Размышления» разбор оперы Пфитцнера «Палестрина», побывав на ее премьере и потом еще на четырех спектаклях подряд. Это произведение, пишет он дирижеру Бруно Вальтеру, с которым тогда, как оказалось, на всю жизнь подружился, «отвечает самым глубоким, самым насущным моим потребностям своим метафизическим настроением, своей этикой «креста, смерти и могилы», своим сочетанием музыки, пессимизма и юмора (а все это вместе взятое и есть мое определение понятия гуманности) ». Восторженный интерес нашего героя к «Палестрине» и пятикратное посещение одного и того же спектакля имеют прямое отношение к его собственной работе. Они объясняются тем, что в опере Пфитцнера он видит художественное, не загрязненное злобой дня выражение идей, которые он сам, Томас Манн, в пылу полемики отчасти дискредитировал. «Скажу больше, — читаем мы дальше в письме к Бруно Вальтеру, — появление этого произведения именно теперь — для меня настоящее счастье: оно делает меня позитивным, оно избавляет меня от полемики, оно составляет большой предмет, к которому мое чувство может присоединиться и с точки зрения которого все противоположное, то есть все противоречащее моему понятию гуманности... кажется несущественным». В другом письме тех же дней — пацифисту Паулю Аманну — он говорит, что знает, почему «по уши влюбился» в оперу Пфитцнера: потому что это «произведение умирающей романтики, нечто последнее из вагнеровско-шопенгауэровской сферы, нечто совершенно обворожительное для меня».
А как обстоит дело с его собственной данью этой сфере, с его книгой, работа над которой уже подходит к концу? В декабре 1918 года, вскоре, стало быть, после брест-литовского перемирия, он читает вслух отрывки из нее в одном мюнхенском литературно-философском кружке. Ожидаемой дискуссии не получается. Вместо дискуссии цитируем еще одно письмо: «...какой-то симпатичный министерский советник произнес маленькую речь, в которой назвал мою книгу «имеющей военное значение». А я бы хотел, чтобы война кончилась прежде, чем книга выйдет — во-первых, вообще, во-вторых, потому, что вовсе не хочу иметь военное значение, а хочу высказать то, что у меня на душе». Он кончает книгу выражением радости по поводу перемирия с Россией («Мир с Россией! Мир прежде всего с ней!») и горьким прогнозом, что война против Запада, против «цивилизации», «политики», «демократии», против «буржуа-ритора», будет продолжаться долго, потому что это не просто война, а целый исторический период. Кончает утверждением, что проблему человека нельзя решить политически, что решить ее можно только психологически-нравственно.
В марте 1918 года он отправляет свою полную внутренних противоречий рукопись в Берлин, Фишеру, и начинает хлопоты о бумаге для печатания, хотя говорит, что в иные места этой книги, «где царят вражда и жестокий раздор», никогда не заглянет. И это замечание только лишняя примета тогдашней его внутренней раздвоенности, ибо как раз последние недели работы над «Размышлениями» проходят для него под знаком «вражды» и «раздора». Все, что копилось у братьев друг против друга, все, что выходило наружу только намеками, порой, правда, очень прозрачными, наконец-то высказывается в лицо именно сейчас.