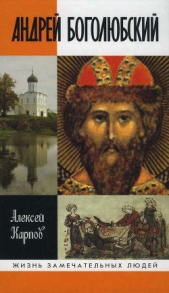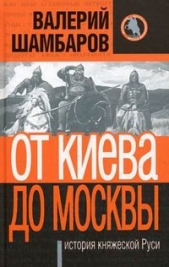Андрей Боголюбский

Андрей Боголюбский читать книгу онлайн
За свою любовь к Богу получил Великий князь Андрей Юрьевич имя Боголюбский. Летопись гласит, что был князь так же милостив и добр, подавал нищим и больным. В то же время Андрея Боголюбского ценили как мужественного и смелого воина, трезвого и хитрого политика. При нём Киев перестал быть столицей Русского государства, новым политическим центром стал Владимир.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Кучковна, вся поникшая, сидела за столом, перед незнакомым Гаше закрытым кожаным баульчиком с медными застёжками. Когда Гаша вошла, боярыня даже не посмотрела на дочь. Неподвижный взгляд Кучковны не отрывался от слабого пламени догоравшей свечи.
Гаша начала было рассказывать о своей Кудринской неудаче, но мать, всегда внимательная к хозяйственным делам, остановила её движением руки, не то равнодушным, не то пренебрежительным, не то усталым. Потом не своим, тусклым голосом велела Гаше идти к сыну, объяснив очень коротко, что с ним случилось.
Проведав спящего сына, Гаша поспешно воротилась к матери и, обняв её за плечи, спросила:
— Что с тобой, матушка?
Кучковна подняла на дочь глаза, которые при неверном огне свечи казались особенно большими и, как колодезная вода, прозрачно-тёмными. Она долго смотрела на Гашу молча, будто стараясь лучше запомнить её черты. Потом проговорила очень тихо и однозвучно: До нашего дома кровь добрызнула.
Огонь оплывшей свечи дрогнул и погас.
Теперь в окно глядело много звёзд. Одни едва теплились, другие ярко горели белым, безучастным светом. Ни одна не мигала. Ветер сошёл на землю. Было слышно, как под его напором шумят сосны.
VI
За ночь ветер вошёл в силу.
К утру он уже гнал по Москве-реке длинные, разнолистые волны, сердито качал и крутил чей-то уносимый течением пустой челнок, трепал на звоннице колокольные верёвки, рвал и швырял к земле печной дым и ерошил рябые перья поповских кур. По глубоко синему, начисто подметённому небу мчались редкие клубы пухлых облаков. Трава ходила ходуном и, будто в испуге, припадала к земле, а на берегу задранные ветром круглые листы мать-и-мачехи все побелели, оборотив вверх нежный бархатец своей изнанки.
У кудринского косоглазого мужичишки, сидевшего на земле с пятью своими одножихарями перед закрытыми воротами боярского двора, трепетали на ветру все махры его одежонки и все волоски на заросшем до глаз лице.
Когда посадница вышла на открытые переходы своих хором посмотреть голубей, которые, надувшись шарами, жались друг к другу на полочках, и потом перегнулась через перила, чтобы взглянуть на кудринских ходоков, ветер содрал у неё с головы затейливо повитой алый убрусец, и она еле удержала его в руке, поймав за вышитый золотом конец.
А когда выбежал из своей калитки огнищанин, вихрь мигом загнул вверх обе его полы и, стегнув по лицу, заставил низко пригнуть к груди горбоносое лицо. Так, с отвороченными полами и опущенной головой, прошагал он мимо вскочивших на ноги кудринских сирот и в ответ на их низкие поклоны только приподнял одну бровь и скользнул холодным глазом по их почтительно поджатым животам.
А ветер в это время наддал ещё. На обветшалой кровле пустого княжеского терема что-то загромыхало, и сорванная бурей тесина гулко хлопнулась оземь. На звоннице закачались и тревожно задленькали мелкие колокола. Огнищанин, не останавливаясь, кинул равнодушный взгляд на терем, на упавшую доску, на звонницу и торопливым, деловым шагом завернул мимо поповского двора к Боровицким воротам, где против Предтеченской церкви, ниже княжеской усадьбы, широко расположился его конный двор.
Ключник Маштак сидел на ступеньке боярского крыльца. Ветер сбивал на сторону его блестевшую на солнце тёмную бороду, отчего плющилось ещё более его широкое свежее лицо. Когда он, морщась, поглядывал на солнце и скалил при этом ровные, съеденные как у лошади, зубы, в этом оскале было заметно выражение нетерпеливой досады: он уже два раза посылал сказать о себе боярыне, но та всё не принимала его.
Маштак, ещё не старый человек, когда-то вольный московский слобожанин, пошёл к боярину Петру в ключники без ряда и тем обратил себя в холопа, то есть в раба. Но холопье, или, как чаще говорили, обельное, бесправие окупалось тайными выгодами дворовой жизни. Пётр Замятнич ценил в Маштаке деловую находчивость, умение крепко держать в руках челядь и твёрдость в обхождении с тянувшим к боярскому двору сельским людом.
Кучковна не верила ключнику, не любила его, но не смела прогнать Петрова ставленника.
Маштак отлично знал (чего не знала Кучковна), с каких пор и почему кудринский мир носит шерсть на боярский двор.
Он сам был свидетелем, как боярин Пётр ещё в те годы, когда подолгу живал на Москве, приглядел себе на Пресне завидную ольховую лядину с доброй брусничной землёй, как приневолил кудринский мир повалить и спалить эту лядину и как потом, когда земля эта принесла огромный урожай, боярину захотелось выровнять межу новой нивы и для этого прибрать к рукам ещё и сиротский клин, вдавшийся в его палянину. А в этом клину, очищенном многолетними трудами от пенья-коренья, были все лучшие пашни кудринского мира — весь их хлеб.
С боярином не поспоришь: против семнадцати кудринских орачей Замятнич уже в те, давние годы мог выставить отборную сотню челядников с топорами, вилами и нагвозжёнными кистенями. Сиротам оставалось одно, плакать. Но слёзы не умягчили бы боярского сердца. Всё уладил молодой ещё в то время ключник Маштак, которого кудринцы задобрили подарком: он убедил своего владыку, что выгоды будет больше, если сироты откупятся шерстью, а поглянувшийся боярину клин, покуда они будут исправно носить шерсть, пускай, так и быть, остаётся пока за ними.
С тех пор кудринский мир и носил шерсть каждогодно к Петрову дню вот уж шестнадцать лет.
Замятничу это было в самом деле куда прибыльнее и проще, чем орать своей челядью клин. Да и Маштак и казался не в убытке: его отец ловко бил шерсть и теперь, имея всегда благодаря сыновней подмоге запас овечьей шерсти, стал первым на Москве шерстобитом.
Об этом-то и думал сейчас Маштак, нетерпеливо притаптывая каблуком сорную травишку у боярского крыльца. О том же размышляли и ждавшие за воротами кудринцы.
Вечор, после отъезда боярской дочери и Маштака, ОНИ долго просидели на брёвнах под дубом. Вникнув и Маштаковы угрозы, они поняли, что напрасно понадеялись на Петрову опалу. Боярский двор, видать, ещё силён, а им, сиротам, помощи неоткуда ждать. Косой забиячливый мужичишка только испортил дело, остервенив своими уколопинами мстительного ключника. Теперь, того и гляди, налетят на их пашни боярские челядники. Лишь сама боярыня — ежели допустят их до неё и ежели найдёт на неё добрый стих — может отвести от них беду.
На рассвете выбранные миром ходоки уж шагали в город по колеистой и ухабистой Волоколамской дороге. Дорога шла густым лесом. Внизу было тихо, а наверху хозяйничал ветер. Макушки деревьев гнулись все в одну сторону, мотали ветвями, свистели и шелестели взбудораженным листом, будто спеша передать друг другу пошепту какие-то только что услышанные тайные вести.
Когда поравнялись с Хлыновским починком, где среди нетронутого мелколесья рубил себе двор княжой птицелов, кудринский староста, несмотря на всю свою мрачность, не мог удержать улыбку и сказал косому:
— А тебе опять соловьёв ловить!
На Москве было хорошо известно, что если одаривать Маштака, то ничем ему так не угодишь, как соловьями. Его просторная изба на подгородном берегу Москвы-реки была полна птичьих клеток. Весенними вечерами из его окон неслись то соловьиные раскаты с дробью и стукотнёй, то ямской свист певчего скворца.
VII
О том, что Иван Кучкович казнён, а посадник закован, знала уж вся Москва. От посадничьего стремянного услышали и о том, что старший Кучкович на воле и живёт по-прежнему в Боголюбове, в той же, видимо, чести, что и раньше.
И в городе и в посаде всё начало утра ушло на вызванные этими вестями пересуды. Но за последний юд боярские опалы и казни сделались так часты, что им перестали дивиться. Братья Кучковичи давно отчудились от Москвы, и судьба их занимала московлян гораздо менее, чем участь посадника, чья жадная рука тяготела уж двенадцать лет и над городом, и над посадом, и над окрестными слободами и сёлами.
«Замстились ему наши обиды!» — таков был общий голос.