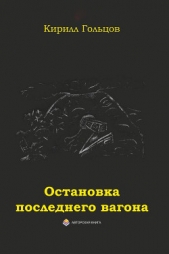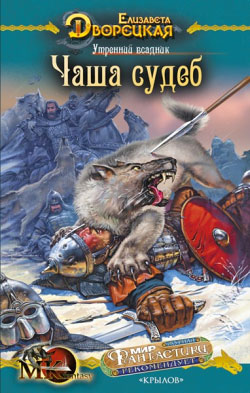Екатеринбург, восемнадцатый
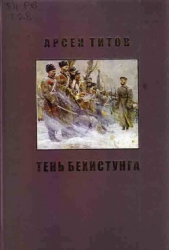
Екатеринбург, восемнадцатый читать книгу онлайн
Роман известного уральского писателя Арсена Титова "Екатеринбург, восемнадцатый" — третья часть трилогии «Тень Бехистунга». Перед вами журнальный вариант этого романа, публиковавшийся в № 11, 12 журнала «Урал» 2014 г.
Действие трилогии «Тень Бехистунга» происходит в Первую мировую войну на Кавказском фронте и в Персии в период с 1914 по 1917 годы, а также в Екатеринбурге зимой-весной 1918 года, в преддверии Гражданской войны.
Трилогия открывает малоизвестные, а порой и совсем забытые страницы нашей не столь уж далекой истории, повествует о судьбах российского офицерства, казачества, простых солдат, защищавших рубежи нашего Отечества, о жизни их по возвращении домой в первые и, казалось бы, мирные послереволюционные месяцы.
Трилогия «Тень Бехистунга» является одним из немногих в нашей литературе художественным произведением, посвященным именно этим событиям, полным трагизма, беззаветного служения, подвигов во имя Отечества.
В 2014 году роман-трилогия удостоен престижной литературной премии «Ясная поляна».
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— По дому-то вся моя душа изорвалась! Спасибо, хороший человек! Век теперь вам служить буду! — сквозь слезы, брызнувшие по-девичьи, сказал он.
— Век служить, а как же домой? — пошутил я.
— Какое домой-то, коли вы ко мне с таким добром! Вы меня только на Пасху Святую отпустите, а потом я вам век служить буду! — преданно посмотрел он мне в глаза.
Я вспомнил своего вестового Семенова, свалившегося в лазарет накануне моего отбытия из корпуса. Он верно служил мне два года и просил взять его с собой, куда бы я ни отбыл.
— Хорошо. На Святую Пасху отпущу! — пообещал я.
Заведовал в совете всеми делами о военнопленных товарищ Семашко. Я поступил в его непосредственное распоряжение, испросил себе один день на ознакомление с бумагами. В ответ клинышек его бородки вострепетал недовольством.
— Что бумаги, товарищ Норин! Что бумаги! В гущу надо идти, в бучу, прямо в лагерь! Там надо вживаться в работу! Бумаги — это буржуазные предрассудки! — заклеймил он мой метод руководства.
Я понял, что в бумагах, как некогда у брата Саши, командира отдельной казачьей пограничной полусотни, сам черт ногу сломит, что товарищ Семашко боится мне их показать. Я подумал взять на разборку бумаг Сережу, а товарищу Семашко, явному представителю буржуазии по происхождению, в некоторой насмешливой готовности подчиниться откозырял. Но, кажется товарищ Семашко принял мой жест не за насмешливость, а за издевку.
— Мы с вас спросим всю серьезность вопроса! — по-революционному косноязыко сказал он, а клинышек его бородки указал мне на дверь.
Серьезность же вопроса была поистине серьезной. Лагерь был обыкновенным скопищем развращенных бездельем и вседозволенностью, забывших не только воинскую дисциплину, но, кажется, сами человеческие заповеди оборванцев. Собственно, в условиях революции ожидать иного было бы верхом дурости.
Ворота лагеря были расхлобыстаны настежь и искобочь. Охранники лагеря, какие-то парняги, как оказалось, из верхисетской рабочей дружины, революционно и остервенело резались в карты и строили оборонительный вал из семечной шелухи. Я спросил начальника охраны.
— А ушел! — не отрываясь от карт, сказали они.
Ничуть не отличалась картина и в канцелярии. Грязь соперничала с грязью в особняке Поклевского и венчалась плакатом на немецком языке: «Наша революция — ваша революция!» — что, вероятнее всего, не особо настраивало обитателей лагеря на оптимистический лад. Писарский стол был окружен толпой военнопленных, что-то отчаянно и зло втолковывающих писарю. Я услышал только слова: «Каждый пять!» — и ответ писаря, ломающего язык под пленных: «Каждый десять!»
Описывать состояние лагеря значило бы снова описывать всю революционную Россию, которую лагерь представлял в миниатюре: грязь, вши, голод, тиф, разгул, всеобщая ненависть, — к которым прибавлялась специфика жизни пленных, выражающаяся в жгучем желании скорей возвратиться на родину. Я инкогнито обошел весь лагерь, сначала пытаясь наметить первоочередные мероприятия и работы, а потом понял, что второочередных не будет. Всё выходило самым насущным.
И все же самым первым был мой приказ о вечернем построении, приказ, вероятно, за все революционное время вышедший в первый раз. Он обитателями лагеря был принят за неслыханный. Ко мне явились выборные старшие казарм с выговором, что в России революция и они ее восприняли по совести, проявили свою солидарность, отчего приказ о построении был расценен в качестве акта насилия. Я терпеливо всех выслушал, дал минуту остыть и сказал:
— Дисциплина — самый короткий путь домой, господа военнопленные!
— Но ваша революция — это… — хотел сказать один из выборных старших, однако не успел.
Его резко и зло, если не сказать с ненавистью, перебил старший офицерской казармы.
— Die schlechte Sauerteig verdirbt das ganze Teig nicht! (Худая закваска не заквасит всей опары!) — сказал он пословицей и тем показывая, что революция их не касается.
Но, как ни странно, сотрудничать со мной, то есть выводить лагерь на сносную, с поправкой на время, жизнь стали не офицеры, а нижние чины. И это при том, что офицерский состав лагеря кроме посылок с продуктами и в обычное время незаметными, но в наших обстоятельствах становящимися просто роскошью предметами получал еще и ежемесячное денежное пособие.
На вечернее построение явилась лишь половина лагеря. Офицеры не вышли вовсе. Я спросил старших, где пребывают их сотоварищи. Оказалось, кроме сказавшихся больными, большое количество их болталось по городу. И я каждый день видел их, болтающихся военнопленных, но, сам не умеющий праздно болтаться, я не отдавал себе отчета, что они пребывают в городе не по какой-то надобности, а просто болтаются. Разумеется, я счел такое положение, когда военнопленные болтаются по городу, невозможным. Я доложил об этом товарищу Семашко и получил выговор, будто именно я привел лагерь в описываемое состояние. Я уже стал понимать, что революция — это то, когда все хотят приказывать, но никто не хочет взять на себя ответственность за исполнение. «Все, кроме Паши и Яши!» — уточнил я, присовокупляя к ним еще и Ленина с Троцким. Я даже стал испытывать к ним некое странное уважение.
Далее наши служебные отношения с товарищем Семашко складывались по вполне просчитываемой схеме. Он находил обязанным ставить мне немыслимые задачи, а меня находил обязанным их немыслимым образом исполнять.
— Товарищ Норин! — выставлял он вперед клинышек и тем как бы определял непреодолимое между нами расстояние. — Есть жалоба на худые крыши. Смею уверить себя, что вы их почините не позднее третьего дня! — И следом клинышек вещал: — Товарищ Норин! Есть жалобы на уменьшение дачи хлеба. Смею уверить себя, что вы изыщете возможность ее восстановить в прежней норме!.. Товарищ Норин! Есть жалобы на отсутствие у ваших подопечных литературы на их родных языках! Смею себя уверить, что… Товарищ Норин! Есть жалобы на то, что вы не предоставляете подопечным возможности заработка. Смею себя уверить, что… Товарищ Норин! Есть жалобы на недостаточное обеспечение лагеря мылом и карболкой, отчего ухудшается санитарное состояние вверенных вам граждан европейских стран. Вы представляете некоторые международные последствия? — и далее следовала некая попытка разноса, отчего-то прерываемая в самом начале. И опять следовали «жалобы» на то, что насыпные опилками стены казарм изъедены мышами, что в лагере не ведется работа по воспитанию интернационализма, не ведется запись в социалистическую Красную Армию, снова «жалобы» на то, что худые крыши не чинятся, соответствующая литература не предоставляется, мыло с карболкой отсутствует, заработка нет.
Он ставил мне задачи, которые в обыкновенное время решались бы без труда, а в наше революционное время выходили по-настоящему немыслимыми. Негде было взять жести на крыши. Негде было взять стальной проволоки на изготовление мышеловок. Негде было взять лишней корочки, чтобы положить ее в мышеловку. Негде было взять мыла и карболки. Негде было найти возможности заработка. И всего негде было взять.
— Не знаю, не знаю! А хоть разберите соседние обывательские крыши!.. А хоть переводите литературу на соответствующий язык сами!.. А хоть свяжитесь с эсерами, и они вам экспроприируют!.. А хоть наймите своим подопечным бонн с их манерами!.. А хоть выпишите из заграницы!.. Вы поставлены служить, так служите! — отвечал мне клинышек и завершал глубокие по революционности свои ответы новой попыткой нотации за нереволюционную постановку вопроса решения задач с некоторыми намеками на опасное отсутствие во мне революционности в целом.
Такое отношение ко мне не изменилось даже в том случае, когда мне кое-что удалось сделать. Вернее, удалось сделать не только мне, не мне одному, а нам, так как у нас тотчас же сложилась небольшая рабочая команда — я пригласил Сережу и Анну Ивановну, и к нам присоединились некоторые из военнопленных. Сережа взялся за разбор бумаг с таким жаром и с такой дотошностью, что быстро нашел массу всевозможных нарушений прежней командой коменданта лагеря. Вышло даже так, что обитателей лагеря отпускал болтаться по городу писарь за определенную плату. Именно эту картину я застал в канцелярии в первый мой день. Оказывается, обитатели лагеря предлагали писарю по пяти рублей за разрешение выйти в город, а он требовал по десяти рублей. И сей предприниматель настолько насобачился в изыскании себе дохода, что придумал под любым предлогом и без предлога издавать приказ об аресте кого-либо из военнопленных и потом брать с них ту же плату за освобождение.