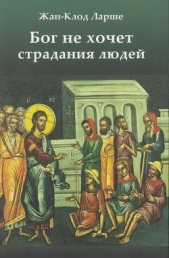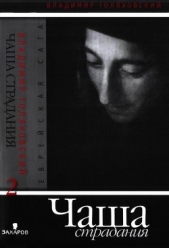Необыкновенное лето

Необыкновенное лето читать книгу онлайн
В историко-революционной эпопее К.А.Федина(1892-1977) – романах «Первые радости» (1945) о заре революционного подъёма и «Необыкновенное лето» (1948) о переломном 1919 годе гражданской войны – воссоздан, по словам автора, «образ времени», трудного и героического.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Маленькая, шустрая, рано состарившаяся, Ольга Ивановна, легко приседая, бежала с узелком по улице, торопясь отнести заказчице платье. Или протискивалась через базарную толпу к возу, гружённому капустой, и, выбрав кочан, давила его в обхват, пробуя ядрёность, чтобы не прогадать лишнего пятака. Или копошилась у себя в углу над столом, выкраивая шитьё и потом тонкой кистью руки подталкивая материю под стрекочущую иглу машинки. Этим бегом, суетой, труженичеством безустальных рук неугомонная женщина сколько раз вытаскивала семью из ям, куда невзначай сталкивал её глава дома – Тихон Парабукин – неизбывной своей приверженностью к вину. Не он, конечно, а Ольга Ивановна была настоящим водителем дома, считая себя одну в ответе и перед детьми, и перед мужем, нуждавшимся в ней иной раз пуще малого дитяти. Она вырастила Аночку, она растила Павлика наперекор всем бедам, с упрямством, которое питалось исступлённой её идеей – освободить их от недоли, какую до дна испила сама. В воспитании Аночки ей помогла Извекова. Вера Никандровна положила начало Аночкиной грамоте, устроила девочку в гимназию, хлопотала за неё перед обществом пособия нуждающимся ученицам и вообще протягивала крепкую руку, лишь только являлась в этом необходимость, вплоть до того, что подарила швейную машинку, за которую Ольга Ивановна благословляла её, просыпаясь и засыпая. Но не сторонней добродетелью держалось существование семьи, а натянутыми до предела жилами матери. Парабукин не раз порывался поддержать труды жены – отыскивал службу, с ликованием приносил домой первое жалованье, но вскоре пускал по свету больше, чем заработал. Он тоже любил детей, особенно Аночку, но любовью виноватой, а Ольга Ивановна любила самозабвенно, ни на минуту не усомнившись, что любовь её восторжествует и даст плоды.
В сонной голове Аночки все это прошлое выражалось не мыслями, а перемежающимися видениями, и странно было, что уже все стало именно прошлым с того момента, как в круглых, выпяченных глазах матери она рассмотрела смерть. И она лежала на кровати, точно связанная, ощущая, как отекли руки и ноги, и за всем мельканием полуснов испуганно повторяла в уме, что уход матери будет не уменьшением семьи на одного человека, а концом семьи, концом дома.
Ей показалось, будто что-то переменилось в звуках комнаты. Ходики летели по-прежнему. Но, кроме их хруста, Аночка ничего не услышала. Она мгновенным движением повернула тело на локоть и похолодела от колючего притока крови к пальцам и коленям. Тяжёлый долгий хрип словно наводнил собой весь мир. Потом надолго стихло. Потом опять прорвался, распространился и угас новый хрип.
Значит, всё-таки – конец? Как это могло случиться, и неужели так бывает всегда? Ещё недавно, ещё вчера, зная от доктора, что опасность велика, Аночка верила, что мама не умрёт. Ещё сегодня поутру Ольге Ивановне вдруг стало лучше, и можно было убеждать себя, что кризис означает конец болезни, а не смерть. Ведь вот прошла же первая болезнь – устрашающий всех сыпной тиф, когда Ольга Ивановна была так слаба и так легка, что Аночка переносила её на руках, словно ребёнка. И Ольга Ивановна начала поправляться, вставать и даже опять взялась было за иголку. Почему же теперь несчастная история с каким-то отёком лёгкого должна кончиться смертью? Нет, это просто кризис, конец кризиса, его вершина. Ольга Ивановна перешагнёт через вершину, вздохнёт поглубже, вздохнёт и…
Почему она не вздыхает? Нет, вот, вот опять! Опять этот хрип, ещё ужаснее, ещё неестественнее. Неужели возможно такое клокотание, такой рёв в человеческой груди, в узенькой, жалкой маминой груди? И вот молчание. Нет. Вот ещё. Нет, послышалось. Неужели все? Неужели это был последний вздох? Нет, не может быть! Если бы Аночка знала, что это – последний, она слушала бы совсем по-другому, совсем по-другому…
Но почему хрипа нет? Сейчас будет. Может, будет уже последний, потому что очень давно не было, очень долго стоит тишина, и комнаты ждут. Вот. Вот начался, начался. Но начался совсем неожиданно, совсем иначе, какими-то короткими толчками. Что это?
– Что это? – спросила Аночка дрожащим голосом и в тот же миг, как будто очнувшись, поняла, что вместо хрипа мамы вдруг вырвались через отворённую дверь все более учащающиеся и растущие, живые, отчаянные всхлипы. Это рыдал отец, чем-то глухо пристукивая о железную кровать.
– Что это? – вскрикнула Аночка.
Она хотела подняться, но её держала тяжесть, какой никогда прежде не бывало в её свободном и послушном теле. Она полежала неподвижно.
Из комнаты быстро вышел взъерошенный Павлик, пододвинул стул к ходикам, забрался на него и остановил маятник.
– Зачем? – спросила Аночка и села на постели.
Но Павлик не ответил, и она только увидела его позолоченные, тронутые жаром и как будто осуждающие глаза: наверно, у него не хватило слов ей объяснить, что часы останавливают, когда в доме умирает человек, – он вычитал это в одной удивительной книге.
Уже рассвело, но предметы казались ещё слитными, когда Аночка боязливо вошла в комнату матери. Отец – высокий, исхудалый, в короткой не по росту толстовке чёрного сатина – стоял у кровати, согнувшись глаголем, положив локти и голову на железный прут изножья. Вздрагивая, голова его билась об руки.
Мать была новой, – Аночка не узнала её и со страхом отвернулась. Ища опоры, она подвинулась к стене, почти в угол комнаты, и, чувствуя, что сейчас заплачет, поднимая к глазам руки, задела настенную полку и свалила на пол пустую вазочку из папье-маше – единственное украшение дома, раскрашенное маркими цветами.
Точно от этого звука, похожего на щелчок по картонке, отец распрямился, судорожно захватил в кулак простыню и сорвал её с мёртвой. Рухнув на колени, он начал со стонами, громко и часто целовать тоненькие ноги Ольги Ивановны.
Аночка подняла безделушку с пола, поставила аккуратно на место и вдруг выбежала из комнаты, бросилась к себе на постель и тяжело уткнула лицо в подушку.
Два дня затем протекли в странном перемещении лиц, – появлялись, исчезали и опять являлись соседи и знакомые с советами, утешениями. Ольга Ивановна раньше никого не стесняла, а теперь, когда её уложили на стол, заняла очень много места, и квартирка сделалась ещё меньше. Аночка говорила со всеми, кто приходил, а потом забывала, кто был, и спрашивала – почему не зашёл тот, с кем она только что разговаривала.
Забегал чаще других Мефодий Силыч – побратан и собутыльник Парабукина. Он считал долгом поддерживать упавший дух вдовца, для чего оба удалялись в сени или на задворки, под старую, отцветающую акацию, и там наспех опоражнивали посуду, которую приносил в кармане утешитель.
Был Цветухин. Он положил в ноги Ольги Ивановны букет сирени. Цветы мгновенно залили квартиру удушающим ароматом, и этот аромат внёс с собою безысходно-томительное ощущение покойника в доме. Егор Павлович заставил Аночку прогуляться с ним по улицам. Она согласилась, но, выйдя за ворота и вслушавшись в его отвлекающие речи, запротивилась, будто в раскаянии, и кинулась назад.
Была Вера Никандровна. Она принесла вышитый гладью шёлковый платок – им повязали голову покойницы, накрыв краями с бахромой руки. Ольга Ивановна стала так белоснежна в сияющей нарядной этой раме, что Аночка не выдержала и, как ребёнок, который прячется от какой-нибудь неожиданности, присела, крепко уткнулась лицом в колени Беры Никандровны, и та долго, убаюкивающе поглаживала её стриженый затылок.
Павлик больше всех проявил деятельности. Прыткие ноги его как нельзя лучше помогали в эти часы печальных хлопот. Он разузнал нужные адреса, водил отца к гробовщику, ездил на кладбище. Он видел, как упрочилось значение его в доме, и гордость его особенно возросла после того, как он побывал у Мешковых, намереваясь поделиться горем с Витей. Больная Елизавета Меркурьевна страшно разволновалась, вздумала даже пойти проститься с Ольгой Ивановной, но её уговорили не вставать. Она подробно расспрашивала, как умирала Ольга Ивановна, и потребовала от Павлика, чтобы он немедленно бежал домой – узнать, не нужны ли деньги.