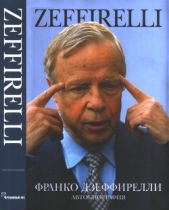Стихотворения и поэмы. Рассказы. Борислав смеется

Стихотворения и поэмы. Рассказы. Борислав смеется читать книгу онлайн
В книгу классика украинской литературы Ивана Франко (1856–1916) вошли наиболее известные стихотворения, поэмы («Смерть Каина», «Иван Вишневский», «На Святоюрской горе», «Моисей») и рассказы (из книги «В поте лица», из Борисовского цикла), отличающиеся богатством тем и разнообразием жанров, а также повесть «Борислав смеется».
Вступительная статья С. Крыжановского и Б. Турганова.
Комментарии Б. Турганова.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Вставай, — крикнул он мне, — беги под мост!
Неподалеку был мост через речку. И под мостом было укрытие, которое мы оба знали.
Я собрал последние силы и встал.
— А ты то куда денешься? — спросил я Хому.
Беги, я о себе позабочусь!
Я побежал, оставив его в камышах.
Не знаю и до сих пор, что за хитрость придумал тогда Хома, чтобы и на этот раз уйти от погони. Через минуту, дрожа всем телом, сидел я под мостом, спрятавшись очень хорошо. Сижу я, сижу, понемногу и страх прошел, присматриваюсь, прислушиваюсь, что делается с Хомой. Ничего не слышно, только река шумит под мостом.
Долго я сидел, согнувшись в три погибели, не шевелясь, между двумя бревнами. Но вот слышу какие-то голоса. Выглядываю осторожно, — господи милостивый! Да ведь это моего приятеля, моего Хому ведут стражники. На руках и на ногах побрякивают кандалы, стражники окружили его и поблескивают карабинами. У меня в глазах потемнело, сердце словно льдом обдало. Гляжу пристальней, — Хома по самую шею мокрый; весь в грязи, да еще на нем гнилые листья, осока, камыш и всякая болотная трава. Видно, бедняга хотел спрятаться в болоте, да не удалось, нашли его, словили!
«Слава тебе господи, хоть я уцелел», — подумал я про себя, сжался, как только мог, и сижу тихо, едва дышу.
Ну кто бы думал, что Хома даже теперь захочет напортить мне! Ох, ох, боже единый! Приятель, приятель! Послушайте только, на какую хитрость пустился мой любезный приятель, чтобы и меня погубить и отдать в руки стражникам. Слышу я, издали раздаются шаги. Идут стражники на мост, под которым я сижу! Слышу еще что-то. Точно кто-то поет, что ли! Прислушиваюсь — голос Хомы. Идет оп и ироде поет, да так протяжно:
— Ладно, ладно! — крикнул я из-под моста, взволнованный жалобным Хомииым напевом.
Господи, как я в ту минуту напугался своего собственного голоса! Жить и умирать буду, а той минуты не забуду. Зашумело у меня в ушах, зарябило в глазах, кровь прилила к голове — сам не знаю, что со мной сталось…
Я опомнился на мосту. Два стражника держали меня за руки, один запирал на железный замок цепь, которую надели лисе на руки. Я двинул ногой, на ней залязгала такая же цепь.
И вы говорите мне о дружбе! Разве по-приятельски поступил со мною Хома? Я поглядел на него. Он стоял хмурый, мокрый, дрожащий. Взглянул на меня — в его глазах блестели слезы… Да что мне с этих слез? Они ни мне, ни ему не помогут!
На другой день уже обстригли нам кудри. Мы были солдатами.
Ох, дружба, дружба! Товарищество! Дались вы мне себя знать, не забуду вас до самой смерти! Из-за вас пропала моя молодость!
‹Лолин, июнь 1876›
КАМЕНЩИК
Ах, этот стук, этот грохот, эти крики на улице как раз напротив моего окна! Они отгоняют у меня всякую мысль, не дают мне ни на минуту покоя, отрывают меня от работы. И некуда мне деться, некуда укрыться от этого неугомонного стука: с утра до самого вечера он не затихает, а когда я, изнуренный дневной жарой, ложусь спать, то слышу его отчетливо даже во сне. И так вот, представьте себе, уже целых два месяца! С той поры, как начали строить напротив моих окон этот несчастный каменный дом. С той поры я не написал ни единой строчки, а стук и грохот не утихали у меня в ушах.
Не имея возможности сам что-нибудь делать, сижу я день-денской у окна и гляжу на работу других. От движения, беготни, работы нескольких десятков человек, мечущихся и снующих в тесноте, точно муравьи в куче, нервное раздражение у меня проходит. Я успокаиваюсь, глядя, как мало-помалу под руками этой массы рабочего люда вырастает большой каменный дом, как вздымаются вверх его стены, как шипит и дымится известка, которую гасят в больших дощатых ящиках, а затем спускают оттуда в ямы, как обтесывают каменщики кирпичи, пригоняя их к надлежащему месту, как женщины и девчата носят цемент в ведрах, сквозь дужки которых продета палка, как подручные, согнувшись в дугу, втаскивают вверх по лесам кирпичи на деревянных носилках, положенных точно ярмо на плечи по обе стороны шеи. Вся тяжелая каждодневная работа этих людей проносится передо мною, как туча, и, слушая их крики, шутки и разговоры, я забываю о себе, будто утопаю в безбрежном, непроглядном тумане, и быстро, неуловимо уплывает час за часом, день за днем.
Только вот десятники со своим криком, руганью, угрозами, самоуправством, издевательством над рабочими вырывают меня из этого непроглядного тумана, напоминают о живой, мерзкой действительности. Их всего двое, и, несмотря на это, они всюду. Все рабочие умолкают и сгибают спины, когда кто-либо из них проходит. Ничем им не угодишь, все им кажется не так, на все готова у них издевка, готово гневное, презрительное слово. Но только осмелится кто из рабочих ответить, защититься или заступиться за товарища, как тотчас лицо пана десятника наливается кровью, изо рта брызжет пена, и уж натерпится тогда от него провинившийся! И хорошо еще, если позволят ему терпеть, если не прогонят его сию же минуту с работы! Ведь они тут полные господа, их власть над рабочими неограниченна, и, прогнав одного, они тотчас найдут четверых, и те будут еще напрашиваться на место выгнанного. О, нынешнее лето для десятников прямо раздолье! Только выбирай да урывай из платы сколько вздумается, ничего не скажут рабочие, а если какой и вздумает пожаловаться подрядчику — вон его, пускай пропадает с голоду, если не хочет быть покорным.
Однажды, когда я, по обыкновению сидя у окна, смотрел на работу, вдруг на стене фасада поднялся крик. Причины крика я разобрать не мог, слышал только, как десятник кинулся к одному из рабочих, понурому рослому каменщику средних лет, и начал бранить ею последними словами. А тот ни слова, наклонился и продолжает свою работу. Но десятника это упорное, угрюмое молчание разозлило еще больше.
— Эй, ты, вор, босяк, арестант! Убирайся сию же минуту отсюда! — кричал с пеной у рта десятник, все ближе подступая к рабочему.
Я видел, как угрюмое, склоненное над кирпичами лицо каменщика все больше и больше краснело, будто наливалось жаром. Он стиснул зубы и молчал.
— Что, сто раз мне тебе говорить, висельник ты, голодранец, разбойник, а? Марш отсюда! Сию же минуту убирайся, а не то велю сбросить!
Рабочий, видимо, боролся с собой; лицо у него даже посинело. Наконец, не разгибая спины, он приподнял голову и медленно, с невыразимым презрением в каждом слове процедил:
— Хлоп [20]хлопом и останется! Хам хамом! Не дай, господи, из хлопа пана!
Десятник при этих словах на мгновение точно застыл на месте. Очевидно, присловье каменщика задело его за живое: он был из простых крестьян и теперь, став «паном десятником», очень стыдился своего происхождения. Вот после минутного остолбенения его и прорвало:
— Так? Так ты на меня? Погоди же, я тебе покажу! Я тебя научу! Марш!
Рабочий не двигался и продолжал свою работу.
— Вон отсюда, опришок! [21] Убирайся ко всем чертям, а не то велю позвать полицию!
Рабочий упорно постукивал молотком по кирпичу. Тогда десятник подскочил к нему, вырвал у него из рук молоток и швырнул на улицу.
Разозленный каменщик заскрежетал зубами и выпрямился.
— Хам! — закричал он. — Какого чёрта ты ко мне прицепился? Чего тебе от меня надо?
— А! Так ты еще грозишь? — рявкнул десятник. — Караул! Караул! Разбой!
На этот крик прибежал другой десятник, и общими силами оба накинулись на каменщика. Тот не защищался. Удары посыпались на его спину; сопровождаемый тумаками, онемев от ярости и отчаяния, он сошел с лесов и вскинул на плечи свой мешок с инструментом.