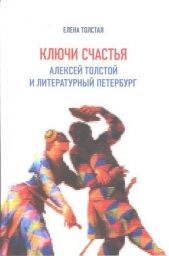Красный шут. Биографическое повествование об Алексее Толстом

Красный шут. Биографическое повествование об Алексее Толстом читать книгу онлайн
Жизнь Алексея Толстого была прежде всего романом. Романом с литературой, с эмиграцией, с властью и, конечно, романом с женщинами. Аристократ по крови, аристократ по жизни, оставшийся графом и в сталинской России, Толстой был актером, сыгравшим не одну, а множество ролей: поэта-символиста, писателя-реалиста, яростного антисоветчика, национал-большевика, патриота, космополита, эгоиста, заботливого мужа, гедониста и эпикурейца, влюбленного в жизнь и ненавидящего смерть. В его судьбе были взлеты и падения, литературные скандалы, пощечины, подлоги, дуэли, заговоры и разоблачения, в ней переплелись свобода и сервилизм, щедрость и жадность, гостеприимство и спесь, аморальность и великодушие. Но более всего Толстой был тружеником, и в русской литературе останутся два его романа, повесть о детстве и сказка, которую будут читать всегда.
Писатель и историк литературы Алексей Варламов, автор жизнеописаний Михаила Пришвина и Александра Грина, создает в своем биографическом повествовании удивительный образ этого необъятного человека на фоне фантастической эпохи, в которой "третьему Толстому" выпало жить.
Гипертекстовая (сокращённая) версия книги.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
К этому времени граф уже восемь лет как не был в Европе. Еще в 1926 году Белкин писал Ященке про заграничные планы Толстого: «На весну он хочет отдохнуть и проехаться в Италию через Одессу». Сам Толстой в 1928-м извещал Полонского о том, что в январе он должен будет ехать в Париж, так как часть действия его романа происходит в Париже, а воспоминания о нем у него «стерлись».
Но Толстого не выпускали за рубеж ни отдыхать, ни работать, хотя многие из его более молодых коллег — Пильняк, Леонид Леонов, Вс. Иванов, Тынянов, Федин, Илья Груздев, Николай Никитин, Лидия Сейфуллина, Михаил Слонимский ездили, и, по большому счету, «Эмигрантов» Толстой написал не просто для приобретения житейских благ, а чтобы окончательно доказать свою политическую лояльность и отрезать все пути возвращения в лоно эмиграции. В пользу этой версии говорит и короткая заметка «Выпускают писателей» из парижской газеты «Последние новости» (где некогда печатался Толстой) от 30 ноября 1931 года: «Кроме находящегося уже в Берлине Евгения Замятина… ожидается прибытие в Германию Всеволода Иванова, Ник. Никитина и давно уже добивающегося заграничного паспорта Ал. Толстого, заслужившего эту милость пасквильным “Черным золотом”».
«Слухи о вашем визите в Европу уже донеслись до Парижа, — писал Толстому Горький, — и Мария Игнатьевна, на днях приехав оттуда, рассказала — Иван Бунин был спрошен одним из поклонников его:
“Вот приедет Алексей Толстой и покается перед тобой, гений, в еретичестве своем, — простишь ли ты его?” Закрыл Иоанн Бунин православные очи своя и, подумав не мало, ответил со вздохом: — “Прощу!”
Весьма похоже это на анекдот, сочиненный человеком недоброжелательным Бунину, но рассказано сие как подлинная правда, и я склонен думать, что так оно и есть — правда! Жутко и нелепо настроен Иван Алексеевич, злопыхательство его все возрастает и — странное дело! — мне кажется, что его мания величия — болезнь искусственная, самовнушенная, выдумана им для самосохранения. Так — бывает: В.И. Икскуль однажды любезно предложила себя Дм. Мережковскому, но он, испуган этим, почему-то — заявил ей: “У меня — люэс!” Сходство — отдаленное, но есть.
Плохо они живут, эмигранты. Старики — теряют силы и влияние, вымирают, молодежь не идет их путями и не понимает настроения их».
Но прежде чем увидеть Горького, Толстой остановился в Берлине, где жил его старый знакомый по «Накануне» Роман Гуль. Гулю принадлежит очень живое описание первой толстовской «загранки», где трудно отделить фантазию от реальности, но образ главного героя получился по-толстовски богатый.
«Встретились 20 марта 1932 года. 18 получил в Фридрихстале письмо от Толстого: на короткое время в Берлине и хотел бы встретиться (телефон и адрес). Я приехал. Остановился А.Н. в прекрасном отеле на Курфюрстендамм. Вид Толстого — веселый, беззаботный, “в хорошем настроении”. Одет как всегда по-барски. За восемь лет, что я его не видел, мало изменился (чуть пополнел, пожалуй). А все ухватки те же, толстовские. Только поздоровались, сели и: — “Роман Гуль, будьте другом, выручьте, — говорит, — вчера тут намазался и переспал с девчонкой. Сдуру дал ей адрес и телефон. Телефон уж звонил, я не подходил, уверен, что она. Как позвонит, подойдите, пожалуйста, и скажите, что герр Толстой, мол, выехал из Берлина… надо от нее отвязаться”. Действительно, во время нашего разговора раздался телефонный звонок и какой-то маловыразительный женский голос спросил (по-немецки) Толстого. Я ответил все просимое. И получил от Толстого спасибо: “отвязался от девчонки” Алексей Николаевич.
Разговор перескакивал с одного на другое. О своей жизни в СССР Толстой сказал, что до пятилетки материально ему было очень трудно, порой даже “ужасно трудно” (его слова. — Р.Г.) “Тогда ведь всякие Авербахи правили. Нас ни за что считали, так, в хвосте где-то. Ну, а теперь иной коленкор, культура взяла свое…”
Помню, мимоходом Толстой заговорил о писателях-стукачах и первым таким назвал Глеба Алексеева (как называли его и Федин, и Груздев), а вторым некоего петербургского поэта, который еще жив, хоть и очень стар. Я спросил о Льве Никулине. “Нет, — сказал Толстой, — о нем ходят слухи потому, что Никулин раньше же работал в ЧеКа «чиновником», как и Бабель”.
Обед был где-то на Унтер ден Линден в подвальном (весьма приятном) кабачке-ресторане, любимом Толстым. И в смысле кулинарии и в смысле разговоров обед был хорош… Толстой за обедом был в ударе: весел, оживлен, как рассказчик неистощим и всегда в стиле “толстовско-анекдотическом”. Помню, рассказывал он про парад на Красной площади, который принимал сам Клим Ворошилов: войска выстроены в каре, все замерло, никто не шелохнется — и в эту тишину из кремлевских ворот выезжает на буланом жеребце Ворошилов. Серебряные фанфары ударили как бешеные (“русские ведь любят все эти штуки!”), крики “ура”, черт знает что такое… Потом рассказывал о самом Ворошилове: “Клим— чудесный парень, выпить любит, русские песни любит, поет, фифишек любит, вот евреев недолюбливает, думаю, нет…”.
Толстой был все тот же любитель анекдотического, великолепный, артистический рассказчик. Миклашевский что-то спросил: о “всероссийском старосте” Калинине, и Толстой сказал: “Вовсе не глуп. Это тут чепуху о нем всякую в эмиграции пишут. Он во всем разбирается. И — умно. Был он раз на вечере в “Новом мире”. Читали там всякие писатели, поэты, старались как могли. Безыменский с товарищами особенно. Один прочел поэму о ГПУ. Читал и Пастернак что-то свое, лирическое. По окончании вечера все обступили Калинина, спрашивают: “Ну как, мол, Михаил Иваныч, вам понравилось?” — “Да что же, — говорит, — вот Пастернак хорошие стихи читал. А эта вот полька о ГПУ, простите, это не стихи. Так писать нельзя. Конечно, ГПУ может быть темой, но трагического искусства, ГПУ для коммуниста — это трагедия…” Все, кто старались угодить, так и сели… Нет, нет, Михал Иваныч человек разбирающийся… и (Толстой смеется) тоже, как Ворошилов, фифишек любит, факт общеизвестный…”
Когда Толстой говорил о параде на Красной площади и о Ворошилове на буланом жеребце, Мария Игнатьевна спросила:
— Если я вас правильно понимаю, Алексей Николаевич, вы считаете, что возрождается русский национализм?
— Нет, нет, не национализм, — поспешно поправил Толстой, — а настоящий патриотизм! А посмотрели бы вы, какие у нас военные ребята! Они никого не боятся, ничего не признают — отчаянные черти! А какая дисциплина в армии — железная! А песни какие поют! Только пьют в России здорово, все пьют! Как двое встретятся — так и намажутся обязательно, хоть водка и дорогая — семь с полтиной, а шампанское пятнадцать рублей.
— А что вы думаете, Алексей Николаевич, может быть — война? Ведь тут нарастает национал-социализм, и это довольно серьезно должно изменить положение на всем Западе? — спросил Миклашевский.
Толстой полным глотком отпил красное вино. И — категорически:
— Нет. Войны не будет. Если будет, то “рейд” без объявления войны. А уж если будет война, то и решится она на Висле. А для Вислы у нас есть специалист — Тухачевский, Ленинградским округом командует. Поседел. Но моложав и крепок. Одно время было покачнулся близостью с Троцким, но потом выправился.
Весь обед Толстой был весел, жовиален, говорил без умолку и все в тоне мажорного советско-патриотического оптимизма. Последним номером — рассказал полуанекдот об актере Ровном.
— В Краснопресненском районе, в театре, заполненном старой рабочей гвардией, видавшей еще 1905 год, в феврале месяце перед представлением актер Ровный (еврей) выступил самотеком с политической речью, желая, вероятно, выдвинуться. Нес он обо всем, и о международном положении, и о пятилетке в четыре года, причем говорил целый час. Рабочие слушали очень уныло. Тогда Ровный стал бросать в зал лозунги: “Долой такой-то загиб и такой-то перегиб, да здравствует мировой пролетариат” и прочее. И наконец кричит: “Да здравствует наш вождь, товарищ… Троцкий!” Это произвело в зале впечатление разорвавшейся бомбы. Поднялся крик, шум, провокация, бросились на сцену. А Ровный присел, бледный и, схватившись за голову, только кричит: “Сталин! Сталин! Сталин!” Оказывается, он попросту оговорился. Вся Москва хохотала над этим. В другой бы раз ему за это не поздоровилось, но тут решили, что с дурака взять? Доложили Кагановичу, тот сказал: “Дурак!” Так и не сделал карьеры товарищ Ровный, а даже наоборот…