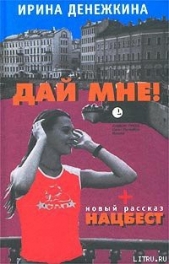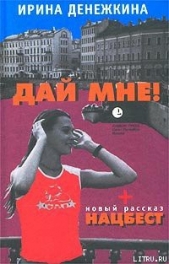Родиться среди мёртвых

Родиться среди мёртвых читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Нет.
— Семья американцев. Хорошенькая женщина, брюнетка с коротко подстриженными волосами, ее муж и трое детей: две девочки, одинаково одетые, и мальчик. Вы с ними поздоровались и спросили, как им нравится Шанхай. Дети болтали все время; мальчик толкал девочек под столом, будто они были дома. Они ни разу ни посмотрели крутом на высокие колонны и на бархатные занавески, и украшения, и ни разу ни взглянули на официанта в накрахмаленной форме, которого я так боялся.
— Я совсем их не помню. Это были мои знакомые?
— Не знаю. Однажды я вас спросил, когда вы едете домой; вы сказали: «О, я не знаю, в один прекрасный день, когда мне надоест мотаться по свету», — как будто Америка просто ждала вас.
— Да, я никогда не думал, что буду с таким нетерпением ожидать отъезда домой, как сейчас. Но ты тоже скоро едешь.
— Да, но вы знаете, ЧЕМУ ВЫ ПРИЧАСТНЫ по праву.
— А ты нет?
— Я только знаю, ЧЕМУ Я НЕ ПРИЧАСТЕН.
Он вдруг встал, говоря, что хозяйка квартиры, где он живет, рано запирается на ночь. У двери мы пожали друг другу руки.
— Знаешь, я тоже помню некоторые вещи; особенно, как ты меня отчитал за мое отношение к рикшам в тот первый день. Я как сейчас вижу, как ты стоишь на углу улицы с моей записной книжкой под мышкой.
На минуту он остановился, я думал, что он мне что-нибудь еще скажет, но нет, он ничего не сказал.
Только Петров пришел меня провожать, когда я уезжал. Он подал мне бумажный мешок, сказав:
— Домашние пирожки, такие, как вы любите, с мясом, — и, как будто я собирался отказываться, добавил, — Конечно, вас будут хорошо кормить на американском пароходе, но все же домашние…
Он сказал, что ему надо торопиться назад на работу, и, так как до отхода еще было время, я пошел проводить его до трамвая. Он обнял меня и перекрестил:
— Хорошего, хорошего, доброго пути. Я желаю вам, мистер Сондерс, счастья и всего самого лучшего в Америке.
Я стоял и смотрел, как он махал платком из окна трамвая.
На пристани толпа собралась вокруг американского морского пехотинца, который спорил с рикшей. Полицейский слушал нетерпеливо.
— Я ему достаточно дал, я знаю, что достаточно, а он требует еще, — говорил моряк. — Я ехал на нем сюда только с Нанкин-роуд.
Моряк был прав. Плата за проезд, которую мальчик-рикша держал в руке, была в три раза больше, чем то, что он мог ожидать, но он был очень молод, и его старшие братья, наверно, научили его, что у иностранцев слишком много денег и их следует обманывать. Полицейский ругал его и бил по спине бамбуковой палкой. Рикша весело улыбался, зная, что, несмотря на боль, ему все же удалось обмануть белого чужеземца. Он только что собирался уйти, когда полицейский повернулся и взял подушку с пассажирского сидения. А потеря подушки означала штраф, равный двухнедельному заработку, а не то — и вообще запрещение работать. Молодое лицо рикши, минуту до этого такое нахально-веселое, стало беспомощно испуганным. Он сел на край тротуара и заплакал громко, как ребенок.
Первые несколько месяцев мне хотелось просто странствовать по Штатам без каких бы то ни было планов и целей. Пожив три недели в Сан-Франциско у матери, я купил подержанный автомобиль и поехал через Калифорнию в Аризону, а оттуда на восток. Когда я приезжал на какое-нибудь озеро, в деревушку в горах, где все еще сохранялись следы первых переселенцев, я оставался там и жил, пока местность не становилась мне достаточно знакомой, и лишь тогда ехал дальше. Время от времени желание опять писать тянуло меня в большие города, где среди шума и звуков голосов, и высоких зданий я чувствовал свою изолированность больше, чем среди спокойствия в горах.
Я был одержим желанием воспринять что-то, что никогда до этого не было моим. Скоро я понял, что потерял способность писать. Что-то, что мне казалось столь ярко запечатлевшимся в моей памяти, не находило теперь выражения. И чем больше я путешествовал по стране, тем больше начинал осознавать, что все ранние молодецкие мечты переселенцев не были похоронены вместе с их костями — костями тех, кто первым сделал заявку на эту землю, и что эти мечты все еще не исполнились.
Наконец я поехал в Нью-Йорк и устроился на работу в крупной газете. К концу первого года я был всецело поглощен работой, установил четкий режим и не чувствовал никакого разочарования в своем существовании. Мне нравились некоторые из моих сослуживцев, особенно молодые, и время от времени я обедал в клубе, где собирались старые Чайна хэндз [44], и мы вспоминали прошлое.
Я не был несчастлив; наоборот, во всем этом отсутствии каких-либо ожиданий было какое-то спокойствие. Время от времени, когда воспоминание о Китае появлялось в моей памяти, я чувствовал ностальгию, неопределенную и болезненную. Но по мере того как шли годы, все труднее и труднее становилось вспоминать, и часто я сомневался в надежности моей памяти.
В один из моих приездов в Сан-Франциско поздней осенью 1949 года мама сказала мне:
— Несколько месяцев тому назад приходил какой-то странный человек, спрашивал о тебе. Он оставил свой адрес, и я хотела переслать его тебе, но куда-то положила и нашла его только пару дней назад.
Она дала мне листок бумаги, на котором было написано: «1517 Клемент стрит. Дом господина и мадам Кураковых. Спросить Петрова».
Я ждал Петрова почти два часа. Пожилая русская пара, у которых Петров снимал комнату, настаивала, чтобы я с ними пообедал, и я сел во главе стола лицом к улыбающемуся портрету генерала Эйзенхауэра, который висел над портретом царя Николая Второго.
Среди криков и объятий я не заметил, как постарел Петров. Его хозяева удалились в свою спальню, умоляя нас оставаться в гостиной.
— Приехал в вашу страну почти шесть месяцев тому назад, — сказал он. — Уже есть двое внуков и еще ждем одного.
— А как все другие в Китае?
— Еще много наших в Шанхае, но большинство уехали на Самар, остров на Филиппинах. Живут в палатках в очень скудных условиях. А все же это было очень хорошо со стороны филиппинцев позволить им оставаться там теперь, когда прежнего Китая больше нет.
— А Тамара?
— Я вам писал об этом перед самым отъездом из Шанхая.
Я сказал ему, что никаких писем от него не получал.
— Александр уехал в Советский Союз в сорок седьмом. Я продолжал ходить в советское консульство насчет Тамары. Эвакуация больных откладывалась много раз. Потом однажды, месяцев восемь тому назад, доктор из Мунг-Хонга позвонил мне и сказал, что Тамара убежала из госпиталя. Они ее так и не нашли.
Пока он произносил эти слова, образ Тамары встал передо мной с необыкновенной ясностью. Не знаю почему, но Тамара, блуждающая по полям Китая, была более реальна для меня, чем если бы она уехала с Александром. И когда я пошел домой в тот вечер, она опять предстала передо мной живой впервые за все эти годы.
ЭПИЛОГ
Я живу в доме, который стоит на крутом холме над узкой улицей, плотно застроенной китайскими домами. Из моего окна виден верх пика Победы, где большие роскошные дома, окруженные садами из тропических растений, возвышаются над городом. Я снимаю квартиру из двух комнат у китайского профессора, который приехал из Пекина в Гонконг незадолго до революции. Он живет внизу со своим четырнадцатилетним сыном и маленькой мохнатой собакой, которую мальчик нашел где-то на улице.
В отличие от других беженцев, профессору повезло, он нашел работу в Гонконгском университете. Он также дает частные уроки. Студенты приходят маленькими группами, и иногда я вижу, как они, уходя, кланяются ему с почтением.
Я ничего не знаю о матери мальчика, потому что профессор никогда не говорит мне о своей личной жизни. Когда у меня бывают какие-нибудь особенные новости о Китае, я захожу к нему рассказать их. Он слушает внимательно, но без замечаний.
В среднем раз в месяц мне приходится уезжать из Гонконга на несколько дней в Таиланд или Лаос. Эти поездки нарушают однообразие моей жизни, но я всегда рад, когда самолет приземляется на Кайтак-аэродроме, и мой китайский ассистент машет мне из окна машины. Мы едем по улицам Каолуна с яркими витринами магазинов и разукрашенными ресторанами, и потом, всегда с удивлением, я любуюсь видом гонконгской гавани, такой спокойной и величественной, под прикрытием которой находят убежище плоскодонные джонки и сампанки с тентовыми палубами. В мои рабочие часы я совершенно отрезан от Гонконга. Сидя за пишущей машинкой у себя в кабинете и глядя в окно, из которого вид — на окно такого же здания и кабинета, как мой, единственно, чем я занят, — это словами, которые передают новости. Но когда я иду домой по улицам, наполненным толпами китайцев и любопытных туристов, или когда я останавливаюсь посмотреть на свадебную процессию, или когда я вижу голого ребенка с протянутой рукой, бегущего за иностранцем, я осознаю, что я — свидетель мимолетных мгновений уходящего мира.